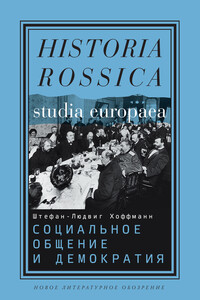Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 64
Используемые Бенкендорфом характеристики, как и сами решения по делу Квашнина-Самарина, позволяют увидеть, какую социальную нишу отводили дисциплинарные инстанции в конце 1830-х – 1840-х годах человеку, которого считали находившимся на границе нормы и помешательства. Мы видим, что с точки зрения шефа III Отделения, едва ли не второго человека в государстве, этот диагноз не препятствует поступлению на службу. Однако не на любую: только на гражданскую, в провинции, и в незначительной должности; в те же месяцы Квашнин-Самарин, служивший до 1832 года в артиллерии, подает просьбу об определении его в Кавказскую армию и сразу же получает отказ[211].
Квалификация незадачливого поэта как «полупомешанного» отчетливо напоминает другую, намного более известную историю, произошедшую незадолго до начала злоключений Квашнина-Самарина, в 1836 году. После того как в журнале «Телескоп» было опубликовано Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, журнал был закрыт, его издатель сослан, цензор уволен, а сам автор публикации объявлен сумасшедшим. Характерно, что это объявление было сделано без официального освидетельствования, то есть тоже в нарушение закона. Однако, если присмотреться, между этими случаями есть очень существенная разница.
Как полагает Михаил Велижев, главным проступком Чаадаева, его издателя и цензора была сочтена публикация уже давно известного во французском оригинале сочинения в переводе на русский язык, да еще и для широкой аудитории (в университетском журнале)[212]. Поскольку отменить публикацию задним числом было невозможно, у властей было два сценария дальнейших действий: расценить материал «Телескопа» как следствие иностранного заговора – на чем настаивал С.С. Уваров – или объявить автора душевнобольным, как предлагал А.Х. Бенкендорф. Это второе решение позволяло представить дело Чаадаева как единичный случай нарушения установленных порядков, лишь слегка искажающий картину всеобщего процветания и лояльности. Если же «Философическое письмо» было бы сочтено следствием заговора, Бенкендорф оказался бы в этой ситуации виновным в служебной халатности, так как разоблачение подобных заговоров являлось его прямой служебной обязанностью[213].
Опус Квашнина-Самарина не только не был опубликован – число его читателей можно было, по-видимому, сосчитать на пальцах одной руки. Да и сам автор был, в отличие от Чаадаева, человеком малоизвестным. Поэтому обвинение в политической неблагонадежности не наводило тени ни на одно высокопоставленное должностное лицо – и «изобретать» сумасшествие и психиатрический диагноз не было необходимости. Незначительное политическое преступление влекло за собой и не очень значительное наказание – ссылку в не самую отдаленную от столицы губернию.