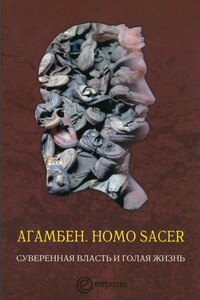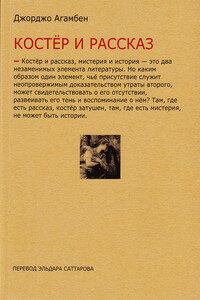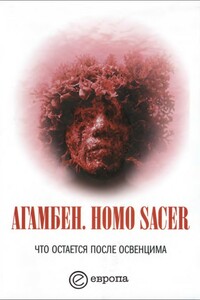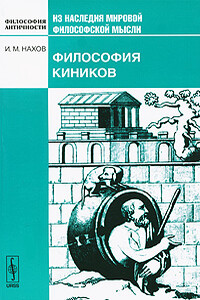Нагота | страница 28
Живущим в Венеции этот призрак знаком. Он появляется внезапно во время ночной прогулки, когда взгляд, перескочив через мостик, огибает угол и следует за погружённым во тьму каналом, где в отдалённом окошке играют оранжевые блики, а на другом точно таком же мосту стоит прохожий и смотрит, держа в руке мутное зеркальце. Или когда идёшь по пустынной набережной Дзаттере и начинает казаться, что Джудекка[55] бормочет что-то, выплёскивая на берег канала мокрые водоросли и пластиковые бутылки. И всё перед тем же призраком в отблеске последнего луча света, зыбко мерцающего над каналами, стоял Марсель[56], глядя, как тот растворяется в контурах чернеющих отражений палаццо. Но ещё задолго до этого призрак поселился у основания города, который, в отличие от любого другого места в Италии, не зародился на перепутье между угасающим позднеантичным миром и свежим варварским натиском, а был построен руками измождённых беглецов, бросивших свои римские богатства и взявших с собой лишь их дух, чтобы растворить его в воде, линиях и красках.
Набережная Дзаттере. Фото, 1930
Из чего же состоит призрак? Из знаков, точнее – из отпечатков – тех знаков, цифр, монограмм, что гравирует на вещах время. Призрак всегда несёт на себе метку времени, иными словами, он глубоко историчен. Поэтому старые города – это уникальная территория знаков, которые flâneur[57] невольно читает, блуждая, прогуливаясь по улицам. Поэтому бездарные реставраторы, выравнивающие европейские города и покрывающие их сахарной глазурью, стирают отпечатки, стачивают их так, что их не прочесть. И поэтому города – и в особенности Венеция – похожи на сновидения. Ведь во сне каждая вещь будто подмигивает тому, кто её видит, на каждом существе проявляется отпечаток, говорящий о нём гораздо больше, чем все его черты, движения и слова вместе взятые. Но даже тот, кто упорно пытается истолковать свои сны, отчасти понимает, что в них нет смысла. Так же и в городе: всё, что случилось в этом переулке, на этой площади, на этой улице, на этой набережной канала, на этой дороге, внезапно сгущается и кристаллизуется в одном образе, кажущемся переменчивым и требовательным, молчаливым и игривым, вспыльчивым и отстранённым. Этот образ и есть призрак или дух места.
Чем обязаны мы умершему? «Дело любви, заключающееся в том, чтобы помнить об умершем, – пишет Кьеркегор, – это самое бескорыстное, свободное и преданное дело»[58]. Но точно не самое простое. Ибо мёртвый не только ни о чём не просит, но и делает будто всё для того, чтобы его забыли. Поэтому умерший – возможно, самый требовательный объект любви, по отношению к которому мы всегда беспомощны и неисполнительны: мы забываем о нём и бежим от него.