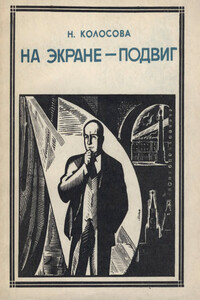Прибалтийский излом (1918–1919). Август Винниг у колыбели эстонской и латышской государственности | страница 43
То было мое первое распоряжение на посту генерального уполномоченного рейха, оно многим людям дало свободу, но не 13 тысячам, а такое число мне порой называли представители местного населения, а примерно 370 персонам. Список арестованных под видом большевиков лиц я положил перед латышскими социалистами и сказал, что отпущу любого, кого они сами сочтут неопасным. Тогда они задумались и заметили, что это придется решить мне самому. Однако я не собирался их выпускать из клещей и потребовал от них обоснования. Тогда они заявили, что уж лучше бы я оставил их всех в тюрьме. Некоторых я все же отпустил, в тех случаях, когда приходили члены семей и я лично убеждался в их нужде, а также мог поверить в добрые намерения. Насчет всех прочих я позднее, в начале декабря, поступил как Пилат, передавший иудеям их царя, – я передал их образованному тем временем ведомству юстиции латышской республики[86], которое было, правда, не слишком радо такому подарку.
В тот же день, 15 ноября, я отменил цензуру прессы и запрет на публичные собрания. Однако остался в силе запрет на основание новых газет без германского разрешения. Я немедленно позволил социалистам выпускать ежедневную газету и приказал выделить им бумагу. Большевикам в газете я отказал.
Рижские большевики немало досаждали мне с первого же дня моей деятельности. Едва исполнительным инстанциям стало известно распоряжение о свободе собраний, как я уже имел счастье визита большевистской делегации, которая потребовала разрешения на семь публичных акций и на выпуск ежедневной газеты. Из семи собраний я разрешил им три, однако при условии, что на всех трех собраниях сначала они предоставят слово мне. Они пообещали мне это. Газету я запретил, но они по этому поводу приходили еще не раз. Из собраний я посетил только одно, ведь только там имело смысл говорить. Я рассказал кое-что о перевороте в Германии – что теперь следовало бы искать взаимопонимания между народами, и желание наше – жить в добрососедских отношениях с латышским народом. Германская революция не будет в точности соответствовать их основанным на русском примере представлениям, однако именно в этом ее преимущество. Я привел несколько напрашивающихся исторических примеров относительно сути революции и сказал, что самые масштабные из революций зачастую оцениваются как таковые лишь спустя поколение, в то время как кровопролитные сцены, которые полагают революциями, представляют собой, возможно, неизбежные, однако в любом случае не имеющие значения побочные явления. Я говорил так, как выступал бы перед гамбургскими или лейпцигскими рабочими. Собравшиеся слушали меня сначала довольно спокойно, но когда я продолжил, меня подняли на смех. Так что я оставил там только молодого латыша-студента, служившего мне переводчиком. Потом он пересказал мне такую сцену: