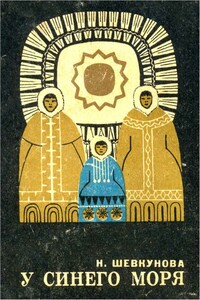Кажется Эстер | страница 35
И, словно застигнутое моей памятью врасплох, время растянулось и захватило Розу, благодаря польской пластинке оно захватило и меня, пробудив бабушкины воспоминания, которые, казалось, заглохли и погребены безвозвратно, как и язык, некогда бывший ей родным, язык, позабытый нами и даже ею самой. С тех самых песенок, которым моя бабушка подпевала и одновременно, сидя, как-то странно, неловкими подскоками, пританцовывала, – подобной сидячей припрыжки я никогда прежде за ней не наблюдала, – я непрестанно, снова и снова раздумываю над бесконечным множеством вариантов наших судеб, которые могли бы отозваться совсем в других песнях. Что было бы, если, случись или не случись все так, а не иначе, как бы все повернулось, если бы они в 1915-м осталась в Варшаве или эмигрировали в Америку, все вместе.
И тогда я сама совершаю странный прыжок, перескакивая, как патефонная игла на заезженной грампластинке, через всю войну – область, неподвластную моим спасительным фантазиям, и переношусь в семидесятые годы моего детства, когда мои родители вполне могли уехать. Но они остались, чтобы сохранить предметы и душевные порывы, давно вышедшие из употребления и обихода.
Путеводная лоза
Моя бабушка Роза не поняла бы нас обоих, ни моего брата, ни меня. Он ближе к тридцати начал изучать иврит, я – немецкий. Он обратился к ортодоксальному иудаизму, ни с того ни с сего, как все мы полагали, а я влюбилась в немца, – и то и другое в равной мере было чуждо бабушкиным жизненным установкам. Его иврит и мой немецкий – эти языки изменили наши жизненные пути: теперь перед нами был «проход только на свой страх и риск». Мы же росли в советской семье, русской и нерелигиозной, русский язык был гордым наследием тех, кто изведал, что такое отчаяние перед лицом судеб отчизны, как сказано у классика, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык; сегодня у меня к этим словам зачем-то примешивается немецкая рождественская песенка, о веселое, о блаженное, милость приносящее Рождество, наше место в жизни определяется уже не принадлежностью к живым и умершим родственникам, а сопряженностью с языком, тем или иным. Когда мой брат начал учить иврит, дабы посвятить свою жизнь еврейству, он ринулся в этот язык безо всякой робости позднего ученичества, со всем азартом неофита, не ведая, что творит, и покорил, заново обрел целую традицию вкупе с утраченным знанием былых эпох. Мой выбор был необдуманным, но оказался логичным. Двумя этими крайностями мы оба, мой брат и я, уравновесили баланс семейного происхождения.