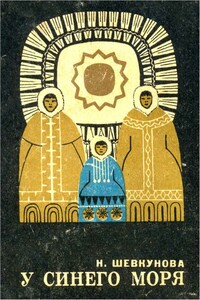Кажется Эстер | страница 36
Мой немецкий пребывал в напряжении недосягаемости, оберегая меня от презренной рутины. Словно самой мелкой монетой, я со всей страстью пылкого молодого любовника расплачивалась этим поздно обретенным языком за собственное прошлое. Я потому так вожделела к немецкому, что не могла слиться с ним, влекомая неизбывным томлением, любовью, у которой не было ни предмета, ни пола, ни адресата, ибо там были только звуки, которые невозможно уловить, дикие и недостижимые звуки.
Я подалась в немецкий, словно борьба с немотой продолжается, ведь немецкий по-русски означает язык немых, немцы для нас немые, немой немец, немец вообще говорить не может. Этот немецкий стал для меня волшебной путеводной лозой в поисках своих, тех, кто столетиями обучал глухонемых детей говорить, – словно и мне, чтобы заговорить, надо выучить немой немецкий, и желание это мне самой было необъяснимо.
Я истово хотела писать по-немецки, во что бы то ни стало, немедленно, сразу, и писала, все глубже погрязая в разбухающей во мне языковой жвачке, мыча и рыча, рожая и рождаясь ценою всех этих мук, словно я и корова, и еще не родившийся теленок одновременно, мои непереводимые путеводные звезды указывали мне дорогу, я писала и плутала тайными, неведомыми тропами грамматики, пишешь как дышишь, непрестанно стремясь примирить страдание и отраду, словно примирение это способно подарить мне глоток отдохновенного морского бриза.
Порой я вгрызалась в язык по праву оккупационной власти, я мечтала об этой власти, словно собираюсь брать штурмом крепость, всем телом броситься на амбразуру, à la guerre comme à la guerre[15], словно мой немецкий – необходимая предпосылка мира во всем мире, цена была непомерно кровавой, потери, как это водится у нас, бессмысленны, беспощадны и любой ценой, но если я и в самом деле смогу по-немецки, тогда действительно никто не забыт и ничто не забыто и возможны даже стихи и мир на земле.
Мой немецкий, правда и обманка, язык врага, – это был выход, вторая жизнь, любовь, что не проходит, ибо несбыточна, отрада и отрава, клад и яд, словно я птичку на волю выпустила.
Поезд
В июле 1941-го, когда моя мама покидала свой родной Киев, ей еще не исполнилось и шести. Все, что она рассказывала мне о своем детстве, вертелось вокруг войны. У нее были воспоминания и о времени «до того», но в войне она обрела то, что утолило ее голод по большим и сильным чувствам, ее естественную тягу к справедливости. Войной для нее измерялось все, что случилось после.