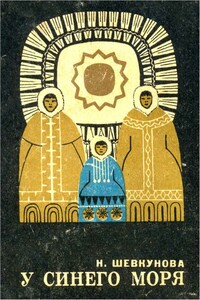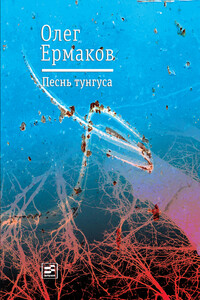Кажется Эстер | страница 34
Вот так я и странствовала по городу с его свежеотстроенной историей и где-то неподалеку от памятника Шопену купила вдруг грампластинку, от неожиданности купила. С конверта на меня вдруг глянул могендовид, звезда Давида. Само это слово, могендовид, как название шестиконечной звезды, я тогда только недавно впервые услышала. На конверте значилось что-то вроде «Żydowskie piosenki Wschodniej Europy». Польские слова я тогда худо-бедно транскрибировала и поняла по-русски: «Еврейские песни Восточной Европы». Могендовид раскинулся на обложке так же широко и по-хозяйски, как простирается моя страна, наша держава, от Москвы до самых до окраин, от Европы до Тихого океана. Я смотрела на него, словно это неведомый диковинный зверь, который вот-вот зашевелится, я ощупывала глазами каждую из шести его конечностей, каждый изгиб, каждый угол. Мы ведь всю жизнь рисовали только пятиконечные звезды, те, что на земле, в небесах и на море, звезды древнего Кремля, про которые пелось в песне, мы знали и другую, ту, где звезда с звездою говорит, ее хорошо петь, когда выходишь один на дорогу, но ни одна из этих звезд не была шестиконечной. Никогда прежде на бескрайних просторах нашей родины не встречался мне могендовид – ни изображением, ни предметом.
Шестиконечная звезда вовсе не потому оказалась для меня такой неожиданностью, что я, допустим, всю жизнь мечтала ее увидеть, я даже подобное желание представить себе не могла, желание было выпотрошено, лишено сердцевины и сути, выдрано с корнем, как нутро из комнат в тех заброшенных домах. Вот почему я почти со смущением смотрела на могендовид, мерцающий глубокой синевой на белом фоне, с пестрой голубкой посередине.
Вернувшись в Киев, я поставила пластинку, и моя бабушка, всю жизнь говорившая с легким польским акцентом, – хорошо помню словечко цацки, означающее по-польски то ли «сокровища», то ли «драгоценности», которым бабушка называла всякие мои безделушки, цацки, словечко веселое и озорное, как леденец, тоже с прицокиванием, – так вот, я поставила пластинку, и моя бабушка, на моей памяти, да и на памяти моей мамы не произнесшая на идише ни слова, вдруг начала подпевать этим шаловливо-щемящим, полным бродяжьего минора песенкам, сперва только подхватывая, как бы припоминая отдельные слова, потом все уверенней, уже в унисон, а затем, внезапно и радостно, и вовсе их опережая, а я слушала ее почти с той же ошарашенной недоверчивостью, с какой ощупывала взглядом могендовид на конверте. Если бы не перестройка, если бы не та загранпоездка, если бы не эта пластинка, замкнутое семью печатями окошко бабушкиного раннего детства так никогда бы и не распахнулось для нас, и я никогда бы не смогла понять, что бабушка моя родом из той Варшавы, которой больше нет, и что все мы оттуда, хотим мы того или нет, из этого утраченного мира, о котором бабушка, уже почти уходя от нас, на последней черте, на краю, вспомнила.