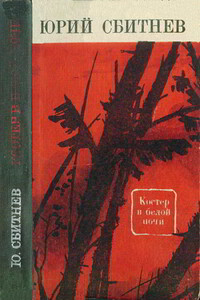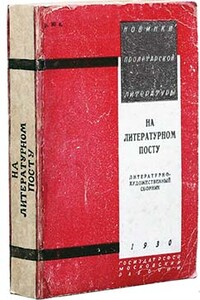Частная кара | страница 44
— Да. — И я в тот миг был бесконечно благодарен Сергею, что он не отстранил меня от своей профессии. Почему-то было стыдно признаться Шолохову, что я пробую себя в литературе.
— За вас, ребята, — и он очень медленно, мелкими-мелкими глотками выпил водку.
Мы выпили тоже и вернулись к своему столику. А он еще очень долго сидел один, о чем-то думая. А ведь можно было не уходить, присесть рядом и заговорить. Ведь было о чем...
Спустя не менее десяти лет я снова встретился с Михаилом Александровичем. Было это в Вешенской.
Все той же стремительной кавалерийской походкой вошел он в небольшой конференц-зал Вешенского районного комитета партии. В то утро мы долго ждали его прихода, поглядывая на чуть приоткрытые двери, но появился он неожиданно.
Мне показалось, что тот переполненный зал, как и я, растерялся на столь неожиданное, словно бы ничем не предупрежденное появление. Выручили аплодисменты. И Шолохов, стоя перед нами в непривычном для его фигуры цивильном костюме, тоже поаплодировал нам и жестом попросил тишины. Восторженный шум был неприятен ему, и он даже чуть поморщился. И это было так естественно, так нескрываемо, что неистовые рукоплескания сразу стихло.
В наступившей тишине тихий голос его, с той самой хрипотцой, прозвучал необыкновенно ясно, словно бы усиленный невидимой радиоаппаратурой. Первые слова были неожиданны:
— Дорогие свои!
Сказал Шолохов и на мгновение задумался. Потом, не меняя тембра, чуть глуховатого, но доходчивого, а точнее — просто и доверительно, объяснил, почему так обратился к нам, молодым писателям.
До сих пор не знаю, было ли это шолоховское слово записано тогда, было ли оно опубликовано, но простота речи, удивительная приземленность ошарашили меня. Я ждал от гениального писателя каких-то необычных слов, сложнейших суждений, не познанных еще никем откровений. А он говорил о будничных, казалось, само собой разумеющихся вещах: о народном языке и народной жизни, о земле и видах на урожай, о песне и музыке, о скороспелых поделках тщеславного разума, спешащего выдать эти поделки за подлинное искусство. Он постоянно сам себя прерывал неожиданной шуткой, порою, как казалось мне тогда, недопустимо простецкой.
Все, что говорил Шолохов, было словно бы уже не раз слышанным и даже чуточку набившим оскомину.
Но что удивительно: речь его, далеко не гладкая, построенная целиком на экспромте, несколько даже шутейная, произнесенная вроде бы по обязанности, рождала не осознанное еще желание думать. И думать и раздумывать не над какими-то там самыми отвлеченными понятиями и мудрейшими сочетаниями, но над самыми простейшими, самыми «незначительными» истинами.