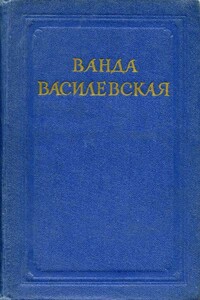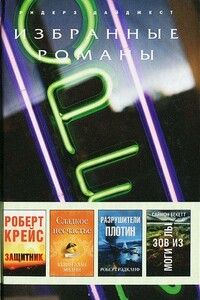Сестренка батальона | страница 44
— Вы? — у Наташи удивленно и зло расширились глаза.
— Я, а что?
— Я — жена Румянцева и, если найду нужным, сама — понимаете, сама! — пошлю вещи его родителям. А пока я не нахожу нужным...
— Да ты, Крамова, не ерепенься!
— У нас нет времени, — нетерпеливо напомнил Садовский.
— Я как-никак капитан и тебе, Крамова, в отцы гожусь, — не слушая его, говорил Переверзев Наташе.
— В отцы, товарищ как-никак капитан, вы годитесь, только не мне.
— Что? — Глаза у Переверзева потемнели. Он вынул руки из карманов. — А ну, встань смирно! Пять суток гауптвахты! Ишь распустились тут...
— Есть, пять суток гауптвахты! — вытянула руки по швам Наташа. — Только я не знаю, где у нас гауптвахта.
— Садовский, где у тебя гауптвахта?
— Какая может быть гауптвахта? Еще жилье не построили...
— А, недотепы, — махнул рукой Переверзев и повел Наташу к землянке, предназначаемой под санчасть. Окликнул Братухина: — Старшина, назначаю тебя часовым.
— Великолепно. Просто генеральская честь! — Сняв ремень, Наташа протянула его Переверзеву. — Между прочим, он некогда принадлежал майору Румянцеву, можете послать его в Комсомольск.
— Садись без разговоров! — заорал Переверзев.
— А думать позволяется?
— Крамова, ты мне эти штучки прекрати! — перейдя на шепот, побелевший от злости Переверзев погрозил Наташе пальцем и ушел.
Стычка с Переверзевым, стычка с новеньким лейтенантом, гауптвахта — все это вывело Наташу из состояния душевного безразличия. «Пока был жив Виктор, все шло нормально, — думала она, — а как его не стало, сразу насмешки, издевки? Они хотят видеть меня в слезах, в истерике. Как же, для таких, как Переверзев, это первое доказательство любви! Но я нарочно буду, как все!»
— Вот, понимаешь, какой зловредный этот зампострой, — в дверной проем просунулся Братухин. — Мне он всегда не нравился. Настоящий петух: ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку! Чтобы все слышали, какой он горластый. Ты молодец, правильно резанула...
— Как ты об офицере говоришь? — оборвала его Наташа. Братухин, жевнув недоуменно губами, отошел.
После вечернего построения явился Марякин, бросил в землянку две плащ-палатки и шинель.
— Постели себе, сестренка.
— Спасибо, Леш.
— Абросим не просит, дадут — не бросит, — проворчал часовой. Он забыл в палатке кисет и теперь страдал без курева. А тут еще Наташа...
— Знаешь, парень, одна старуха три года на мир злилась, а мир про то даже не знал, — напомнил Марякин.
— Катись ты со своими побасенками, — закуривая, ругнулся Федя. — Не глянется мне такая кривизна. По-моему, худой человек — так худой, хороший — значит, хороший. А она сама обругала зампостроя и на меня же рычит: «Ка-ак ты говоришь про офицера?»