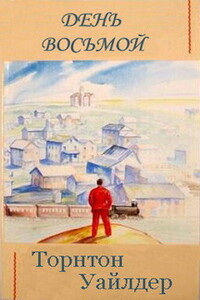Каббала | страница 13
Подобное перечисление фрагментов из ее биографии, попадись оно ей на глаза, вряд ли было бы для нее интересным или смутило каким-либо образом. Ее ум был послушен лишь жаркому дыханию ее раздражительности; она жила, чтобы осмеивать и оскорблять глупцов и идиотов. В этой ее болезненной чувствительности слились воедино религиозный экстаз и семейная неустроенность, ипохондрия ее прадеда, плеть ее деда и его благоговейный страх перед Долиной Скелетов, вечно красные глаза ее бабки и потаенная любовь ее отца к Нормам и Семирамидам из музыкальной школы. Она была неутомима и обладала свойственными мужскому уму талантами, унаследованными от деда, — талантами коммерческого магната, которые в сочетании с ее полом и социальным положением могли найти свое единственное проявление в мании пугать обыкновенных женщин и вмешиваться в чужие дела. При всем этом она была умной и сильной натурой; она правила своей эксцентричной и непослушной паствой с язвительной галантностью, и после ее смерти в римских гостиных долго витало эхо ее странной быстрой приглушенной речи и сдержанного смеха.
Ее портрет будет неполным без перечисления ее в высшей степени странных привычек, которые отчасти объяснялись бессонными ночами, выпадающими на дни ипохондрии, а отчасти — ужасом перед привидениями, внушенным ей гувернантками в детские годы. Она никогда не могла уснуть, пока не придет рассвет. Она боялась оставаться одна; в час ночи она запросто могла попросить последних гостей не уходить и посидеть у нее еще немного; «C’est l’heure du champagne»[14], — говаривала она, мотивируя столь неурочную просьбу. Когда же наконец гости уходили, она посвящала остаток ночи музыке. Подобно германской принцессе из восемнадцатого столетия, она содержала собственный оркестр.
Эти занятия до самого рассвета вовсе не были беспредметным и сентиментальным музицированием; напротив, они были в высшей степени определенны, хотя и эклектичны. В одну из ночей она могла упиваться сонатами Скрябина или маршами Метнера; другую ночь отдавала «Хорошо темперированному клавиру»; она перебирала все фуги для органа Генделя или все шесть бетховенских фортепьянных трио. Постепенно она отошла от легко понимаемой музыки и слушала только то, что давалось с трудом и требовало размышления. Она полюбила музыку, интересную в историческом отношении, и выискивала забытые шедевры Баха и оперы Гретри. Она не жалела денег певцам из церковного хора Сан-Джованни ин Латерано, лишь бы они пели и пели ее любимого неисчерпаемого Палестрину. Она обладала необыкновенной музыкальной эрудицией. Сам Гарольд Бауэр