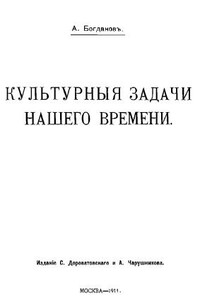Средства без цели. Заметки о политике | страница 30
Тезис, согласно которому все народы – цыгане, а все языки – жаргоны, развязывает этот узел и позволяет нам по-новому взглянуть на разнообразие речевого опыта, которое в нашей культуре затрагивается лишь изредка, вызывает лишь недопонимание и сводится к господствующей концепции. Чем ещё можно объяснить слова Данте, который, рассказывая нам в своей книге “De vulgari eloquentia”[51] миф о Вавилонской башне, говорит, что каждая группа строителей башни получила свой собственный язык, непонятный для других, и что из этих вавилонских языков зародились все языки его времени, если не его представлением о том, что все языки земли – жаргоны (при том, что профессиональный язык ремесленников является образцовой формой жаргона)? В качестве средства против этой интимной жаргонности каждого языка он предлагает (согласно вековой фальсификации его мысли) не национальные грамматику и язык, а преобразование самого опыта слова, которое он именует “volgare illustre”[52], нечто вроде освобождения – не грамматического, а поэтического и политического – самих жаргонов в направлении factum loquendi.
Таким образом, trobar clus[53] провансальских трубадуров сам по себе в чём-то является преобразованием окситанского языка в тайный жаргон (не сильно отличаясь в этом от стиля Вийона, написавшего некоторые свои баллады на арго «кокийяров»); но всё, о чём говорит этот жаргон – лишь иной образ речи, обозначающей собой территорию и объект любовного опыта. Возвращаясь к более близким к нам временам, нельзя не удивляться в этом смысле как тому, что для Витгенштейна опыт чистого существования речи (factum loquendi) может совпадать с этикой, так и тому, что Беньямин видел именно в «чистом языке», не сводимом к грамматике и отдельным языкам, образ освобождённого человечества.
Если языки – это жаргоны, прикрывающие собой чистый языковой опыт, так же, как народы – это более или менее удачные маски factum pluralitatis, тогда наша задача, конечно, заключается не в грамматическом структурировании этих жаргонов и не в перекодировании народов в государственную идентичность; наоборот, лишь разбив в любой точке существующую цепь речи – грамматики (языка) – народа – государства, мышление и практика смогут всегда оставаться на высоте задач своего времени. Формы такого прерывания, в котором