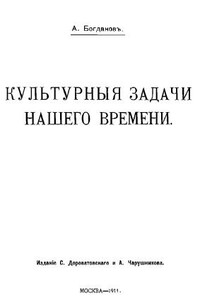Средства без цели. Заметки о политике | страница 29
Связь между цыганами и арго вновь радикально ставит это тождество под вопрос в тот самый момент, когда она начинает пародировать его. Цыгане находятся в таком же отношении к народу, как арго к языку; но в тот краткий миг, что длится аналогия, она бросает вспышку света на истину, которую по тайному замыслу должно было скрывать тождество между языком и народом: все народы – это банды, вроде «кокийяров», все языки – это жаргоны, вроде арго.
Здесь стоит задача не дать оценку научной верности данного тезиса, а, скорее, не упустить его освободительный потенциал. Извращённые и цепкие механизмы, управляющие нашим политическим воображением, мгновенно утрачивают свою власть над теми, кто может задержать на нём взгляд. Сегодня, когда понятие народа уже давно утратило всякое реальное значение, тот факт, что речь идёт лишь о воображении, должен быть очевидным для всех. Допуская, что у этого понятия никогда не было реального содержания, помимо пресного каталога характеристик, перечисленных философской антропологией, оно в любом случае было лишено всякого смысла самим современным государством, представлявшим себя его хранителем и выразителем: несмотря на всю благонамеренную болтовню, сегодня народ – это лишь пустопорожняя опора государственной идентичности и признаётся исключительно в качестве таковой. Для тех, кто ещё питает какие-то сомнения насчёт этого, с данной точки зрения поучительно было бы посмотреть на всё, что происходит вокруг нас: если власть имущие этого мира с оружием выступают на защиту «государства без народа» (Кувейт), то «народы без государства» (курды, армяне, палестинцы, баски, еврейская диаспора) можно безнаказанно угнетать и уничтожать, с тем чтобы всем было ясно, что судьбой народа может быть только государственная идентичность и что понятие «народа» обладает смыслом лишь в том случае, когда её можно перекодировать в понятие гражданства. Отсюда любопытный статус языков без государственного достоинства (каталонский, баскский, гэльский и т. д.), к которым лингвисты, естественно, относятся как к языкам, при том, что на деле они функционируют, скорее, в качестве жаргонов или диалектов и почти всегда принимают непосредственно политическое значение. Порочное переплетение языка, народа и государства особенно наглядно проступает в случае с сионизмом. Движение, стремившееся основать образцовое государство для народа (Израиль), тем самым почувствовало, что обязано вновь оживить чисто культурный язык (иврит), заменившийся в повседневном использовании другими языками и диалектами (ладино, идиш). Но в глазах хранителей традиций именно это восстановление священного языка предстало как гротескная профанация, за которую язык однажды отомстит («мы живём в нашем языке», писал из Иерусалима Шолем Розенцвейгу