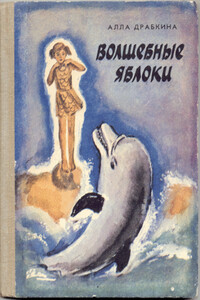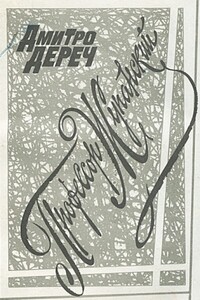Наш знакомый герой | страница 43
И снова суд… «И вновь по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни…»
На суде Веселый Гусь с помощью документов, явно поддельных, купленных или выменянных, доказал, что не мог находиться в блокадном Ленинграде. Служил где-то в интендантстве. Его адвокат нарисовал очень внушительную картину голодных галлюцинаций. Защита избрала хорошую позицию — сочувствовать Гусарову, «понимать» его справедливое негодование, даже оправдывать его, с пафосом говоря о народных бедствиях, ожесточивших сердце молодого человека.
Прокурор не разводил сантиментов. Он вообще не был красноречив. Он усталым надтреснутым голосом сказал, что будь даже то, что поведал суду Гусаров, правдой, это никак его не извиняет, поскольку он напал на старика, избивал его не на жизнь, зверски, а потому опасен для общества.
Самое удивительное, что Гусаров понял прокурора. Он сумел увидеть происшедшее глазами этого усталого, прошедшего войну дядьки. Потому ли, что тот начисто лишен был ложного пафоса, потому ли, что в презрении своем к поступку Гусарова (не к самому Гусарову) был искренен.
И ведь не сразу Гусаров начал бить Веселого Гуся, прежде взвинтил себя, поговорил, нагнал на старика страх, чтобы потом, увидев этот страх, взвинтиться окончательно и довести до конца и д е ю мести. Идея идеей, а нечистоту исполнения Гусаров не мог себе простить, как простил ранее кражу картинки. В избиении, при всей видимости праведного гнева, было глумление над старостью, подлость.
Потому Сурков совсем не обрадовал Гусарова, сказав ему через много лет, что Веселый Гусь оказался тем еще гусем. Бывал он в Ленинграде, бывал. И делал дела. Продавал, надувал, грабил, мародерствовал. Ему удалось уйти от своего последнего суда потому только, что умер во время следствия.
А Гусарову уже не нужно было этих подтверждений своей былой правоты. Он был и так прав, если считать правотой прикосновение молодого злобного кулака к беспомощному старческому лицу. Но такая правота Гусарова только мучила. Он был уже другим человеком.
Тогда Гусаров еще не знал, что эта работа мысли и совести и есть способ духовного выживания, которое он сделал целью своей новой жизни.
Несмотря на новых товарищей, на новые связи и заботы, его продолжало тянуть к невинной (тем для него и ценной), но явно уже настрадавшейся на своем веку девочке. Он был рад, что существовала такая вот отдельная от всего мира, как бы ему принадлежащая Женька Лохматая, которая верила каждому его слову.