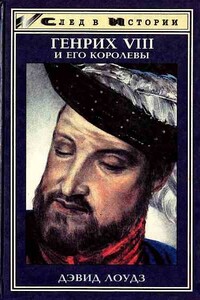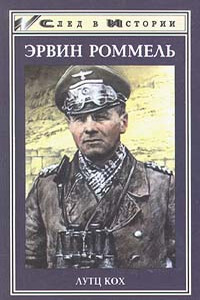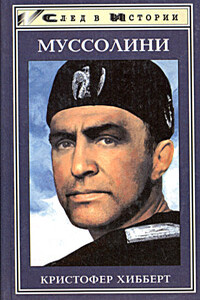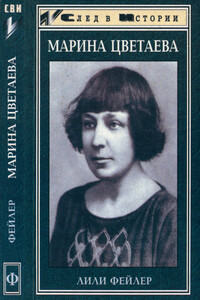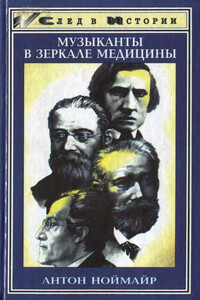Диктаторы в зеркале медицины | страница 125
В любом случае очевидно, что первая мировая война буквально вломилась в личностный вакуум Гитлера в качестве доминирующего фактора запечатления. Во время венского периода становления многократные кризисы идентификации не позволили свершиться окончательной идентификации и персонализации. Лишь война стала решающим «крупным положительным событием воспитательного значения». Это событие явилось началом позднего процесса созревания, из доселе «аморфного образа» Гитлера постепенно начали проступать видимые индивидуальные контуры.
Во время войны казалось, что с неудачником Гитлером покончено навсегда, что этот образ принадлежит только безвозвратному времени унижений и поражений, но вид разбитой немецкой армии в конце войны, революция на родине вновь оказались для Гитлера тяжелым унижением. Мысль о военном поражении была для него невыносима, но революцию он воспринял как личное оскорбление, ибо давно уже в угаре национального энтузиазма идентифицировал себя с Германией. К тому же многие главные зачинщики мюнхенского путча были евреями, у которых «хватило наглости» посягнуть на его националистические и расистские идеалы. Только беспощадным уничтожением всех виновных мог он «выкорчевать» столь глубокое унижение.
Так жажда разрушения, с давних времен присущая Гитлеру, получила окончательную форму и направление. После того, как он трансформировал личное унижение в национальное поражение, речь шла уже не о личном провале, а о провале Германии, единственной его «невесты». «Спасая Германию и мстя за нее, он мстил за себя, смывая позор Германии, он смывал собственный позор». В том, как Гитлер собирался подавлять очередной путч, подобный случившемуся в 1918 году, Эрих Фромм усматривает классический ранний пример присущей ему жажды убийства и разрушения: «Немедленно убить лидеров всех оппозиционных движений, включая лидеров оппозиционного католицизма, уничтожить всех заключенных в концлагерях. Он предполагал, что таким образом надо будет уничтожить несколько сот тысяч человек». Гитлер допускал, что при этом общее число его жертв (под жертвами Гитлер в первую очередь имел в виду евреев) «может даже незначительно возрасти», из чего Фромм заключает: «Конечно, прав тот, кто считает, что Гитлер ненавидел евреев… но столь же прав будет тот, кто скажет, что Гитлер ненавидел немцев. Он ненавидел все человечество и жизнь вообще».
Как ни странно, при всей ненависти к социал-демократам, большевикам и евреям, которых Гитлер, не долго думая, сваливал в одну кучу, во время бурных и кровавых революционных событий в Мюнхене — зверств при захвате власти коммунистами и бойни, устроенной рейхсвером и отрядами добровольцев во время контрнаступления и ликвидации советского режима — он оставался безучастным зрителем и не выходил из казармы. К активному участию в политической жизни его побудил только командир части капитан и офицер генштаба Карл Майр. Он приказал Гитлеру пройти «курс перевоспитания», который вели националистически настроенные профессора Мюнхенского университета, после чего Гитлер был переведен в так называемую «просветительскую команду», в задачу которой входило вернуть немецких солдат, возвращавшихся из плена и отчасти инфицированных спартаковской заразой, на путь истинный, то есть националистический и патриотический. Здесь началась обкатка ораторского мастерства и дара убеждения Гитлера на таких темах, как «ноябрьские преступники» или «еврейско-марксистский мировой заговор». И вскоре, по словам одного из слушателей, о нем уже пошла слава «прирожденного народного оратора, умеющего своим фанатизмом и популярной манерой изложения завоевать внимание слушателей и заставить их думать согласно с собой». Однако на профессора фон Грубера, специалиста по евгенике, наблюдавшего выступление Гитлера на одном из митингов, этот оратор произвел в целом негативное впечатление: «Лицо и голова — плохая раса, метис. Низкий, покатый лоб, некрасивый нос, широкие скулы, маленькие глаза, темные волосы. Вместо усов короткая щеточка не шире носа, придает лицу особую агрессивность. Выражение лица не свидетельствует о полном самообладании, скорее о бессмысленном возбуждении. Постоянное подергивание лицевой мышцы. В конце выражение счастливого самодовольства».