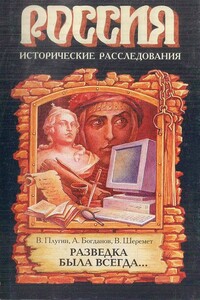Босфор. Россия и Турция в эпоху первой мировой войны | страница 56
В конце XIX в. Вильгельм II поддерживал панисламистскую направленность абдулхамидовского режима в целях ослабления позиций Англии, Франции и России в их населенных мусульманами колониях. Панисламисты уже после 1908 г. высказывали признательность кайзеру от имени “мира ислама”, в частности, за поддержку в македонском и марокканском вопросах. В рамках османизации всех разнородных этнических элементов империи младотурки трансформировали этно-религиозные общины — миллеты в чисто религиозные институты посредством уничтожения их традиционных прав в области гражданского управления, школьного дела и судопроизводства. В политике османизации подданных большую роль должен был сыграть закон о рекрутском наборе (1909), по которому христиане и евреи не могли откупаться особым налогом “бедел-и аскерийе”, а призывались на военную службу наравне с мусульманами. Этот акт был особенно горячо поддержан германскими офицерами в Турции и в прогерманских кругах турецкой армии. Идея “общей прародины”, активно пропагандируемая пангерманцами, поддерживалась уже в младотурецком варианте через германские консульства и в Восточной Анатолии, и в Европейской Турции.
Однако попытки младотурок с помощью османизма обеспечить прочность империи были обречены на неудачу. Младотурецкий режим эволюционировал по нисходящей линии в сторону тоталитаризма, а османизм стремительно вырождался в открытый шовинизм.
После поражения в Триполитанской и Балканских войнах, потери Албании и Македонии (1912 г.) младотурки отказываются от османизма, который обязывал их хоть какими-то законодательными актами, оформлять “равенство и братство” всех подданных. Оценивая политическую обстановку в стране после Балканских войн и крах попыток младотурок поднять знамя османизма, идеолог пантюркизма Зия Гекальп заметил, что империя к 1914 г. превратилась в общественную харчевню, где каждый наедается в своем углу.
Нужны были новые знамена, новые лозунги. Реанимируется панисламизм и быстро становится государственной доктриной пантюркизм, еще более близкий концептуально “пангерманской идее” своими воинствующими поисками единого центра тюрок — Великого Турана от скал Адриатики до пустынь Синцзяна.
Кемаль Карпат, турецкий историк, работающий ныне в США, пишет, что под влиянием Балканских войн и общей обстановки напряженности на Балканах и на Ближнем Востоке значительная часть османской бюрократии и некоторые представители общественно-политической мысли стали идентифицировать старый османизм и “новый” пантюркизм. Рассматривать османское государство как определенную национальную (читай — турецкую) структуру, оценивать его историю через призму турецкого вклада. Османская государственность, признает К. Карпат, в эти годы (1913–1914) стала идентифицироваться с господством турецкой нации. Подразумевались при этом и Малая Азия, и утраченные, но в перспективе достижимые для турок земли Юго-Восточной Европы.