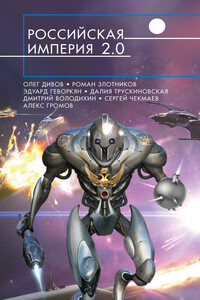Митрополит Филипп | страница 61
Таким образом, Филипп, отыскивая в земельных пожалованиях средства для большого строительства и обеспечения общины, оказался в роли, аналогичной той, что исполняют нынешние губернаторы. И земли, ему подчинявшиеся, по размеру своему равнялись небольшой области современной России.
Это была огромная власть и огромная ответственность. Иной западный герцог или русский князь и мечтать не мог о столь больших владениях! А тут они достались монастырю и его настоятелю.
Впрочем, Филипп, которого с детства готовили не только к войне, но и к делам правления, по роду своему, по прежнему своему предназначению определенно подходил для этой роли.
И он правил жесткой рукой. Краю, оказавшемуся у него в подчинении, Филипп желал блага, хотел дать ему порядок и доброе устроение, но не терпел праздности, пьянства, азартных игр.
Трижды он составлял «уставные грамоты» — как бы сейчас сказали, «нормативные документы» — для населения монастырских владений: в 1548, 1561 и 1564 годах. От имени Филиппа и монастырских властей были назначены «приказчики» с «доводчиками», которые получили право следствия, суда и управления на местах. «Уставными грамотами» определялись их права и обязанности: сколько и за что им платит местное население, какие пошлины и с кого они взимают, какие наказания положены им за злоупотребление властью. Для монастырской администрации, выезжавшей за пределы обители, на Суми и в Великом Новгороде строились и ремонтировались подворья.
По мнению советских историков, изучавших «вотчину» Соловецкой обители, сумма разного рода податей и повинностей, возложенных на жителей области, возросла с тех пор, как они попали под власть монастыря. А. А. Зимин прямо говорит о «росте поборов»>{11}. Даже подростки, еще не знавшие полевой страды или тяжелого солеваренного промысла, должны были впрячься в работу на обитель: «А [если] у которых земских людей [есть] дети или племянники… а поспели промышляти зверя и птицу и рыбу ловити, и ягоды и грибы брати…», то «разруб» общего тягла в сельских общинах рекомендовалось проводить с учетом их трудоспособности. Но ведь и монастырь позаботился о жителях подвластных ему земель, об устройстве скорого суда и эффективной локальной администрации. А это стоило немало. Одна из уставных грамот, кстати, заканчивалась грозным предупреждением: «[Если] старец наш приказчик или доводчик коего крестьянина или казака изобидит чем ни буди или не по сей грамоте что на них возьмут, и им от нас быти в пользе и смирении; и кого чем изобидят, нам на них велети доправити вдвое». Иными словами, обидчику придется отдать вдвое больше того, что он взял лишнего с крестьянина, а настоятель приведет его своей властью в «смирение».