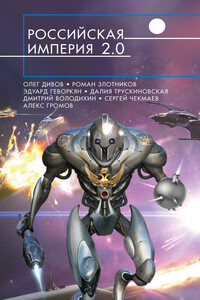Митрополит Филипп | страница 29
Далеко не все обитатели монастыря — сущие ангелы. Даже в образцовой монашеской общине попадаются люди дурного нрава. От таких новому послушнику иной раз попадало. Конечно, человек, с детства обучаемый для военной карьеры, мог бы дать сдачи, да так, чтобы в следующий раз ни у кого не возникло желания поднять на него руку. Однако боевая выучка — лишний навык в обители. Тут необходимо следовать иным образцам поведения: «…не гневаться от уничижения, радоваться битью и терпеть все со смиренномудрием»>{4}. Так поступал и Федор Степанович.
Ему пришлось изрядно поработать руками. Впрочем, русское монашество того времени считало тяжкие труды делом обычным и душеполезным. Конечно, по «особножительным» обителям коротали век старики-аристократы, которые даже в стенах иноческой кельи имели возможность пользоваться всеми преимуществами своего богатства. Они питались и одевались лучше, нежели остальная братия. Они не должны были гнуть спину на помоле зерна, строительных работах или, скажем, на поварне… Однако основная масса иноков жила иначе. Да и светочи нашего монашества своим примером создали идеал инока-труженика. Многие из них не гнушались приложить руки к простой работе — вплоть до самого Сергия Радонежского, искусного плотника. Вот и молодой Колычев попал в этот ряд. Тот, кому в будущем предстояло повелевать, учился подчиняться, хребтом своим узнавал, почем она, хлебная краюха.
Понимал ли настоятель соловецкий, кого Бог привел к нему в послушники? Знал ли, какого полета птица залетела на Соловки? По всей видимости, Федор Степанович не торопился открывать свое происхождение. Ему все еще грозила опасность быть вырванным из монашеской среды по настоянию родни. Но даже если он и открыл игумену Алексию тайну своего происхождения, тот ни в чем не делал для него исключений.
Любопытно сравнить его с другим знатным дворянином, искавшим монашества в XIX веке. Константин Николаевич Леонтьев, великий ум поздней Российской империи, писатель и философ, попал на Афон, имея искреннее желание постричься. Там его научили «середе и пятнице», погрузили в православный быт, показали все красоты и все труды монашеской жизни. Однако на постриг благословения не дали. Великие его наставники, старцы афонские, мудро сказали ему: рано идешь к нам, справься прежде с обстоятельствами жизни своей мирской, иначе они тебя из обители вытащат. Константин Николаевич, личность волевая и к тому же большой гордец, не внял совету старцев. Несколько лет спустя он стал послушником в подмосковном Николо-Угрешском монастыре, а через несколько месяцев сбежал оттуда. Верно сказали ему старцы, все вышло по их слову. Возжелав стать иноком, дворянин, привыкший к высокому уровню достатка, пришел в обитель весь в долгах, без копейки. Он терпел холод, бытовую скудость и даже грязную работу… Доконала его грубая пища угрешской братии. Будь у Константина Николаевича немного денег, возможно, он смог бы докупать хорошие продукты, да и приучился бы мало-помалу к простой иноческой трапезе: сначала мешал бы ее с доброй пищей, постепенно урезая ее порцию, а потом и свыкся бы с общим столом. Но деньги в тот момент оказались отняты обстоятельствами жизни мирской. Лишь через много лет, пожив у стен Оптиной пустыни, вволю побеседовав с тамошними старцами, раздав долги, «переменив ум», попривыкнув к самой простой обстановке, Леонтьев принял постриг. Это произошло незадолго до его кончины, но все-таки в могилу лег уже не Константин Леонтьев, а инок Климент. Подобная эволюция в среде «просвещенного» дворянства его времени выглядела почти подвигом…