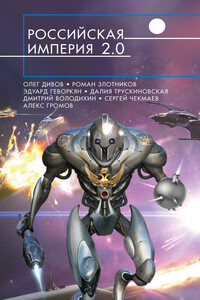Митрополит Филипп | страница 28
В 1468 году новгородские власти даровали небольшой монашеской общине всю землю Соловецкого архипелага. Но братия, хотя и была по внешней видимости богатым землевладельцем, располагала лишь дикими, скудно населенными территориями, а потому жила бедно, много трудилась, и никто не воротил нос от простой черной работы.
Как пишет современный историк, «…чтобы выжить на диком острове, соловецкой братии приходилось много трудиться «ручным делом»: копать землю, валить лес, «сечь» дрова, варить из морской воды соль, ловить рыбу, ходить на небольших судах по бурному и опасному морю, молоть привезенное с материка зерно… печь просфоры и хлеб. Продиктованный суровой необходимостью, этот постоянный и напряженный телесный труд со временем превратился в яркую черту духовной жизни на Соловках. Впоследствии он станет восприниматься иноками как один из аскетических подвигов — наряду с молитвой и постом».
Необходимость для каждого инока «ручного дела» в значительных объемах к 30-м годам XVI века никуда не делась, и Федору Степановичу предстояло познакомиться с ним самым тесным образом.
Каждый, кто хочет стать монахом, проходит в обители своего рода «испытательный срок» — послушничество. У кого-то оно короче, у кого-то — длиннее, и только считаные единицы постригаются сразу после того, как изъявили такое желание. Подавляющее большинство сначала получает опыт жизни в монастыре, неустанных трудов, смирения и самоограничения. Кое-кто, попробовав вкус монашества, понимает, что такая жизнь не по нему. До принятия пострига обитель можно невозбранно покинуть, отказавшись от иноческой доли. В этом нет греха. Человек тратит время и труд, но этим лишь возвышает душу, насколько может. Кто-то способен перейти на более высокую ступень скоро, кто-то входит в монашество на протяжении многих лет и даже десятилетий, кому-то подобный шаг в принципе не под силу. А для кого-то подвиг благочестивой и честной жизни в миру зачтется в неменьшей мере, чем иноческие подвиги, — когда Высший Судия примется оценивать наши жизни.
Ищущий пострига человек именуется в монастыре послушником. И Федор Степанович Колычев был простым послушником долго. Игумен Алексий (Юренев) поставил его на общие работы, наряду с иными послушниками, никак не выделяя из их числа.
Житие передает этот период его судьбы в нескольких емких фразах: «И тружаяся со всяким усердием… и многие скорби и труды подъял, словно раб, которому не суждено быть выкупленным»