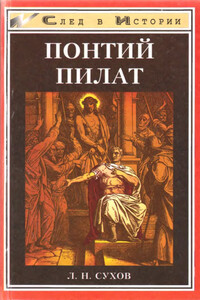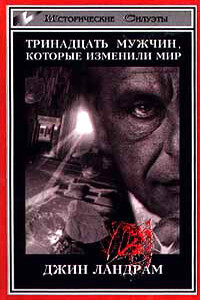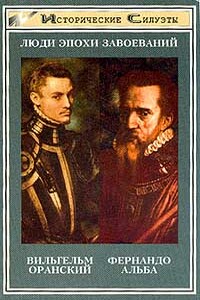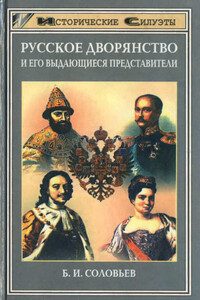Ленин. Сталин | страница 33
Теперь вопрос состоял в том, сможет ли он после пятнадцатилетнего отсутствия, если не считать полутора лет революции, дать правильную оценку положению в России и на ее основе принять соответствующие решения. Непосредственный контакт с рабочими России Ленин имел лишь в 1894–1895 годах в Петербурге; его общение с крестьянством также носило весьма поверхностный характер. Представления о структуре партии и о тактике революционной борьбы выработались в эмиграции, в обстановке изолированности. В связи с этим закономерно возникал вопрос: достаточно ли будет этих теоретических выводов для того, чтобы немедленно начать действовать в реальных условиях?
Оппоненты Ленина снова и снова сталкивались с его целеустремленностью и силой воли, так же, как и с внезапными поворотами тактики. Сейчас, в апреле 1917 года, он в принципе позаимствовал теорию Троцкого о перманентной революции, которую отвергал в 1905 году, а вместе с ней и неприятие компромиссов с буржуазной демократией и другими социалистическими партиями. Решающим фактором предстоящей революции являлись народные массы, начиная с момента их освобождения в феврале. Имея специфическую точку зрения на партию, Ленин не считал себя представителем масс, ни крестьян, ни солдат, ни рабочих. Однако они станут для него инструментом, с помощью которого партия придет к власти.
«Вся власть Советам!» — этот лозунг был брошен в массы, и в его выразительной простоте содержалось не меньше зажигательной силы, чем в требованиях о мире и земле. Относительно того, что советы — лишь ширма для последующего захвата власти партией, массы пребывали в таком же неведении, как и относительно отведенной им функции. Однако сейчас речь шла только о том, чтобы именно завоевать эти массы.
Ленин поднимался на ораторские трибуны и с каждым разом все больше привлекал слушателей на свою сторону. Его речь звучала отрывисто и немузыкально, и находились слушатели, например, Федор Степун, на которых она оказывала воздействие скорее отталкивающее, чем притягательное. Однако и они подчеркивают суггестивную убеждающую силу его речей. В чем состояла тайна ленинской риторики? Некоторые моменты можно объяснить аналогично воздействию стиля его письменной речи. Выражения Ленина зачастую производили впечатление избитых, может быть, банальных, однако благодаря медиуму стоящей за ними личности приобретали значимость и полновесность. «Я понял, — пишет Луначарский, — что как трибун этот человек должен производить сильное, незабываемое впечатление. Я уже знал, насколько силен Ленин как публицист своим грубым и необыкновенно простым стилем, своим талантом так варьировать любую, даже самую запутанную мысль, что она наконец запечатлевается в самом ограниченном уме». По сравнению с другими выдающимися народными ораторами партии, прежде всего с Троцким, язык Ленина казался лишенным пламенного воодушевления, ритмического построения, подлинного напряжения, которые, как правило, необходимы для того, чтобы увлечь массы и внушить им желаемое. Голос его звучал зачастую хрипло, а подчас тускло и бесцветно; в используемых им оборотах речи отсутствовал какой бы то ни было пафос и прочие ораторские украшения. Любил же он популярные, заимствованные из разговорного языка выражения, исконно народные сравнения и характеристики. Правда, при случае мог употребить какую-либо из латинских пословиц, в которых ценил краткость и точность формулировок, не было недостатка и в библейских выражениях, однако еще охотнее он черпал свои образы из басен Крылова. Иногда ему удавались красочные сравнения или языкотворческие формулировки собственного сочинения, которые долго еще оставались эффектными. Риторика Ленина захватывала дух, особенно в те моменты, когда он выбирал себе оппонента, выставлял его слова в ироническом свете и лишал их первоначального смысла. С помощью целой системы язвительных выкриков он пытался полностью выставить оппонента на посмешище и уничтожить его. Случалось, Ленин с удовольствием постоянно повторял одну и ту же формулировку, постепенно все больше подчеркивая ее значение, стремясь таким образом вдолбить ее в головы слушателей и сконцентрировать на ней их внимание. Его речь была обращена не столько к эмоциям и силе воображения, сколько к воле и решимости. Он принуждал своих слушателей к участию в принятии решений, увлекал их собой, так что некритичный слушатель мог бы, подобно Горькому, сказать: «Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды, и даже если эта правда часто была для меня неприемлема, я все же не мог не чувствовать постоянно ее силу».