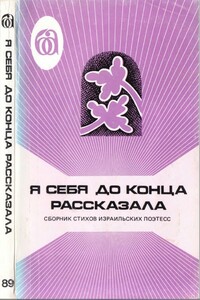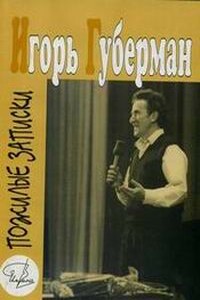Скопус-2 | страница 75
22 июня, утром, на даче под Москвой, мы сидели на светлой солнечной террасе, и прошел кто-то мимо, совсем посторонний, и сказал: «Война».
Мы сидели на террасе и слушали пластинки с еврейскими песнями, Шульмана с Эпельбаумом из коллекции моего отца. Всякий раз, как собирались родственники, как приезжали родственники, отец доставал новый тогда патефон и крутил сам ручку, и менял то и дело иголки, и наслаждался, пожалуй, больше всех. У него тоже был голос, и он подпевал порой, закрыв глаза, запрокинув кверху голову. А родственники слушали, и мы, дети, слушали тоже…
Прохожий сказал: «Началась война».
Все оставалось таким же, как и минуту назад: и солнце, и светлая, уютная терраса, и музыка из нового патефона; но тень уже легла на лица, и для одних это была тень озабоченности, а для других — тень близкой смерти. И вращение пластинки уже замедлялось, голос певца густел, и никто не думал о том, чтобы подкрутить пружину патефона…
Родственники погибли в Одессе.
Бузя. Яков. Мотеле. Ревекка. Залман. Фрима. Ицхак. Люба. Еще Фрима. Хана. Хая. Сурра. Берта. Наум…
— Выпить хочешь?
— А ты?
— Ему нельзя, — быстро говорит она.
— Я уже выпил, — говорит он.
Была когда-то огромная, шумная, дружная семья, хлебосольная и плодовитая, и вот пришли немцы, и не осталось никого. Только отец, да мы с братом, да несколько племянниц с племянником.
И собираться стало некому.
И слушать песни — некому.
И изредка лишь, вечерами, отец вставал у окна и пел те самые песни, что были на наших пластинках. Пел — подражал Шульману, Эпельбауму. Чаще всего — Шульману. Голос высокий, с переливами, мелодии грустные, тоскливые. А мы лежали в постелях и слушали. И люди под окном, на московском бульваре, в центре города, слушали тоже…
Отцы наши были без образования.
Мы, их дети, прошли через институты.
Но умнее не стали. И счастливее. И дальновиднее.
— Что вы все мечетесь? — говорил он, беспомощный, потухший, уже не здешний, раскидавший когда-то по жизни свои интересы, а теперь утягивающий себя назад, в точку, в раковину, отдавая без боя завоеванные некогда пространства, возвращаясь туда, откуда вышел, все свое забирая с собой. — Что вы все ходите, шумите, шевелитесь? Ложились бы спать… спать…
А челюсть запрыгала, а слеза заблистала, а зубы стиснулись, чтобы не расплакаться…
Ему было — уходить.
Мне — оставаться.
А вышло наоборот: мне уходить, ему — оставаться.
И нет уже на свете того патефона с пластинками: пойди поищи. И нет Шульмана с Эпельбаумом: пойди послушай. И некому стоять у окна, что выходит на бульвар, в центре города, и петь, запрокинув голову, прикрыв набрякшие веки…