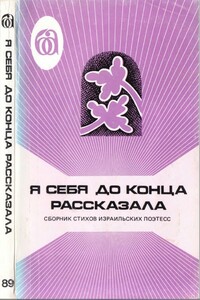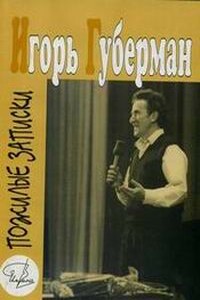Скопус-2 | страница 74
— Сделать тебе яичницу?
— Не хочу, — говорю я и подъедаю все.
Они сидят рядом, смотрят…
Так и я смотрю на детей своих, когда они едят.
Потом он украдкой подхватывает конфету.
— Тебе это вредно, — говорит она.
— Что ты беспокоишься? — говорит он. — Молодым я уже не умру.
И подхватывает другую.
Летом, по воскресеньям, в давние уже времена, он надевал светлый свой костюм, брал за руку принаряженного первенца и шел с ним, будто на приморский бульвар: по Никитскому, по Арбату, к сестре на Плющиху. Они шли по бульвару, как по деревне, с бесконечными остановками, рукопожатиями, восклицаниями на идише, и всякий раз он галантно приподнимал шляпу, а ребенок терпеливо ждал конца разговора. «Это мой капитал, — объяснял каждому, показывая на сына. — У Маркса свой капитал, у меня — свой». А евреям говорил: «Это мой каддиш». И дарил леденцы-конфетки встречным детишкам и постовому милиционеру на площади. А тот брал без улыбки.
Стариков на бульварах уже нет.
Единицы, наверно…
Время беспощадно.
— Дать тебе денег? — спрашивает он.
— А тебе? — спрашиваю я.
— Давай. Сорок тысяч двадцатипятирублевок.
Две пенсии они получали на старости, самые малые пенсии, — у нее на рубль больше, чем у него, — и непременная сберкнижка, с которой запрещалось снимать.
— Это — детям…
Я с детства был уверен, что живу в доме избытка, и никто не мог поколебать это ощущение.
Чисто, прибрано, пол натерт, еда в кастрюльках между двойными оконными рамами, непременная елка под потолок на Новый год, роскошные белые бурки с коричневыми головками, которые он надевал в морозы и которых ни у кого не было поблизости: это ли не избыток?
А еще ковер, что висел на стене, темно-красный ковер с тугим ворсом, который по весне накручивали на толстую деревянную палку, обсыпали нафталином, брызгали керосином, зашивали в мешок, чтобы не пробралась моль.
Этот ковер мы не хотели забирать оттуда, несмотря на вечные уговоры, и это их огорчало.
Огорчало его.
Огорчало ее.
— Я не возьму, — кричу я.
— Это не тебе, — говорит она. — Это — детям.
Шоколадка, пакет с яблоками, свежие помидоры, за которыми она давилась в очередях: невозможно отказаться…
Всю жизнь он поддерживал ощущение, что живем мы в доме избытка. Гостями вечными. Подарками непременными. Костюмом светлым. Шляпой новой. Прогулками по бульвару с нарядным ребенком. А по смерти — не оказалось ничего. Ни посуды дорогой, ни серебра-хрусталя, ни одежд-драгоценностей, ни накоплений в сберкассе — ничего! Пара костюмов на плечиках. Пара стекляшек в коробочке. Но мы, дети, прожили детство без унизительного чувства бедности. Мы были богатые! «Детей я обеспечил», — говорил он. Дети были обеспечены щедростью его, юмором, широкой натурой хлебосола. Хоть и экономили всю жизнь люто. И жили скромно. И не искали удовольствий особых. И в отпуск почти не ходили. И посылали в Одессу деньги, мыло, сахар — то и дело. Одна была забота: заработать семье на прокорм. Если бы только семье! Вся родня прошла через эту комнату. И братья с сестрами, и племянники тучами, и совсем уж неизвестно кто — проездом через Москву. Даже рожали они тут же, с крохотного диванчика шли в роддом… Но зато с праздниками, с именинами, с даванием в долг всем и каждому, с непременной конфеткой встречному ребенку и постовому милиционеру. Он был патриархом среди родственников. А величие патриарха — в щедрости и богатстве.