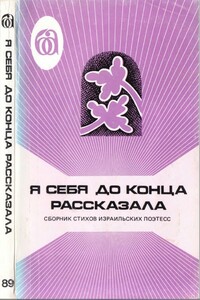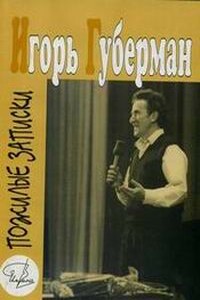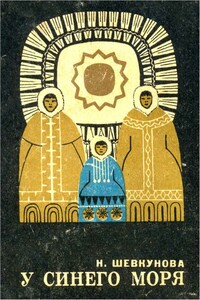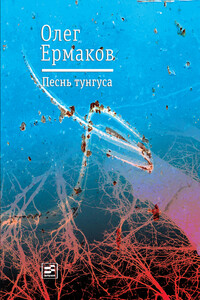Скопус-2 | страница 66
Под солнцем лежало двухцветное облако: низом своим простое, серое, пухлое, а сверху нежное и прозрачное, пронизанное лучезарным сиянием. Шел уже одиннадцатый час, а солнце застыло на одном месте и, судя по всему, не собиралось покидать небосвод. Это было явное чудо, но, к сожалению, никто не придавал ему никакого значения. Масса народу толклась на ярко освещенной улице, но вместо того, чтобы остановиться в изумлении и воскликнуть хотя бы: «Смотрите, смотрите! Что это?», или просто сказать: «Братцы, сколько свету!», или случая ради помолчать немного, вместо этого москвичи все как один перебрасывались рожденными на коммунальных кухнях репликами и мололи какую-то скучнейшую чепуху, суетились без толку, раздраженные и оскорбленные, и все норовили задеть друг друга за живое.
Небесное знамение их не взволновало. Очевидно, оно не сулило им ни мора, ни глада, ни денежной реформы, ни войны, чреватой исчезновением мыла, соли и спичек, и потому не заслуживало внимания. Неразумные они дети, и нет у них смысла.
Мне стало обидно за чудесное явление — неужели это такой пустяк, что на него жаль даже тех нескольких слов, какие обычно с великой легкостью отпускаются по любому поводу: «Быть этого не может! Просто не верится! Что ни говорите — это невероятно!» О солнце никто не говорил и не вспоминал, как будто его вообще не существовало. В конце концов это стало казаться мне не просто странным, но даже подозрительным. Может быть, я что-то перепутала? Может, все московские часы испортились и показывают неверное время? Может, вообще никакого солнца на небе нет?
Но солнце было. Оно сияло и переливалось, будто вобрало в себя золото всех куполов всех ушедших в небытие московских церквей. Под ним лежало облако цвета талого воска, а над ним синело чистое, омытое грозой небо.
Народу на улице становилось все меньше, и когда я подошла к мосту у Белорусского вокзала, не только солнце на небе, но и город на земле казался застывшим и уснувшим. В липовой аллее, что тянется от Белорусского вокзала до аэропорта и дальше, к Соколу, прохожих уже не было совсем. Светло и пусто было вокруг. Солнце не двигалось. Смотрю, и вот — нет человека, и все птицы небесные разлетелись.
В полном одиночестве прошла я по всей Скаковой улице и свернула к своему дому. У ворот я остановилась. В воздухе пахло вишневым вареньем. Тончайшее облачко шелковой лентой обвило небосвод.
В крошечном палисаднике перед домом сидел Полонский, поэт-переводчик из соседнего подъезда, и, склонив седеющую голову, записывал что-то в блокнот, лежавший у него на колене. Полонский был членом группкома литераторов, но его жена как-то жаловалась маме, что его не печатают и вообще затирают, потому что другие поэты-переводчики опасаются конкуренции с его стороны. Соседки же со своей стороны сплетничали, что дома жена и теща не дают ему житья и день-деньской всячески ругают и поносят его за то, что ничего не зарабатывает и сидит у них на шее. Когда я проходила мимо, Полонский поднял голову, но взгляд его громадных черных глаз был устремлен куда-то вдаль, вероятно, в дебри средневековой немецкой поэзии — он переводил только с немецкого и только старых поэтов. Я хотела указать ему на солнце, но постеснялась. Да он, скорее всего, и не понял бы, о чем речь.