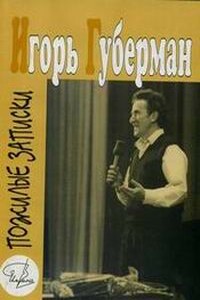Скопус-2 | страница 46
5
Проза
Руфь Зернова
«Все обеты»
Недавно я слышала по радио интервью с молодым хаззаном[14], родом из Ташкента.
И поняла: пришла пора вспомнить то, что я откладывала и откладывала в заветный ящик, где мои «вишни Японии». У каждого из нас этих вишен полные овощехранилища.
Речь пойдет об одесской семье — Милка, ее мать и ее дедушка.
Такая семья. Их немало было в двадцатые и тридцатые годы. Мужчин выбивало — и войны, и разводы, и аресты, поскольку не сразу догадались сажать вместе с мужчиной и его половину.
Милка жила в угловом одноэтажном домике на той же улице, куда выходили окна нашего большого, красивого, высокого четырехэтажного дома. На Преображенской. Теперь это улица Советской Армии. По этой широкой улице мы с Милкой, ученицы шестого «б», ходили и ходили, провожая друг друга. Милка была одна из тех, кого невзлюбила моя мама. Вот мы и ходили по улицам, потому что к себе Милка не звала меня долго. Когда же наконец она меня позвала, то я это восприняла как честь. И мне даже в голову не пришло, — по-моему, только сейчас и пришло, — что она стеснялась своего жилья: одна комната на троих и уборная во дворе.