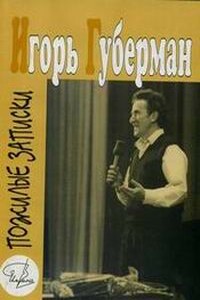Скопус-2 | страница 47
Милка была старше меня. Ей уже давно исполнилось тринадцать. Она была очень маленького роста — меньше ста пятидесяти, очень смуглая, с очень светлыми волосами и глазами. К тому же она пела.
Правда, ее голос нам казался странным: низкий, без всякой серебристости, какой-то взрослый. Учительница пения к ней прислушивалась, но ничего не говорила похвального (сразу записала во вторые голоса, а для них у нас сольных партий не было). Но у Милки был свой репертуар. Она заставляла меня подбирать на пианино — по нотам я плохо умела. Предыдущая моя подруга, у которой были старшие сестры, владела репертуаром эпохи нэпа; у Милки же сестер не было, только мама.
Сколько лет могло быть Милкиной маме? Она была повыше Милки и, пожалуй, стройнее; голова у нее была маленькая, «бубекопф», как это тогда называлось (моды в Советский Союз шли из Германии), — очень короткая мальчишеская стрижка с косой челкой. Карие круглые глаза, высокие скулы, прямой короткий нос. Если бы не увядшая кожа — казалась бы кем-то вроде нашей вожатой (вожатые у нас были из техникума). С нами, Милкиными подругами, держала себя так, словно она — одна из нас: была в курсе всех дел, советовала, рассказывала сама…
Мне не были интересны ее рассказы, ее советы и разговоры; мне все в ней казалось неуместным, даже внешность. Я предпочитала свою собственную мать, высокую и надменную, которая никогда никого участливо не расспрашивала и беспощадно браковала подряд всех моих подруг, но уж если о ком скажет «кажется, хорошая девочка» — это был праздник. А Милкина мама… Мне все казалось, что она притворяется, что не могут ей быть интересны наши дела. И зачем она все время между нами, как какая-то старая девочка?
— У Милочки голос, — говорила она. — И у меня был голос. Я его прокурила, прокричала.
Она смеялась. Зубы у нее были не белые, как у Милки, а коричневатые, прокуренные. И цвет лица такой же, а кожа пористая… Когда девочки говорили: «Милкина мама хорошенькая», я не спорила — удивлялась про себя.
— Сегодня натощак объедалась Маяковским! — объявляла нам она.
Мне казалось — они никогда не обедали, хотя примус в комнате был. И еще в той их единственной комнате был большой стол, но, по-моему, никто никогда за столом не ел: за столом сидел дедушка.
Дедушка никогда ни с кем не разговаривал. И с ним не разговаривали. Милкина мама иногда спрашивала его: папа, будешь кушать? И он бурчал что-то отрицательное и уходил. Как-то раз я видела, как он, сидя в углу, ест хлеб с солью… Видел ли он меня, видел ли он других Милкиных подруг?