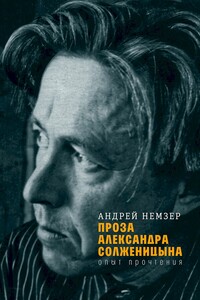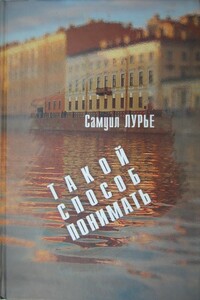Химеры | страница 35
В том числе, значит, и мне. Хотите – верьте на слово, хотите – нет.
Несносно думать любителю справедливости, что в этом, хотя и мелком, случае она потерпела, пусть временное, поражение. Ничего подобного – просто слегка замедлила с неумолимым сокрушительным ответом. У нее не как у Сталина: сын за отца отвечает, и внук – за дедку, а дедка – за репку до седьмого колена.
«Винченцо I, – повествует нараспев г-н Муратов, – не был должно наказан судьбою за это злодеяние, но Немезида подняла свою карающую десницу над всем его родом. В год смерти его не только умер его сын, Франческо IV, но и его внук, маленький Лодовико. Мантуанский престол перешел» и т. д.
Ай да Немезида. Неукоснительный какой судебный исполнитель. Генофонд Гонзага рассеялся по биосфере, их престол достался дальним французским родственникам; не прошло и полвека – Мантуя потеряла независимость и была дочиста разграблена войсками австрийского императора. Единственную, говорят, в своем роде библиотеку Гонзага, коллекцию живописных картин, драгоценную мебель и даже столовое серебро увезли куда-то на девяноста военных фурах, – будет он помнить про царскую дочь. То есть я хочу сказать (то есть не я, а г-н Муратов): сожалеет, небось, вмороженный, наподобие креветки, в придонный слой ада Винченцо I о своем неэтичном поступке.
(Якобы раз в год их оттаивают. Предателей. Ну и прочим мерзавцам дают отгул. В ночь накануне Международного дня солидарности трудящихся. Ад запустевает, дисциплина падает. Надзиратели летят, натурально, на Брокен, к ведьмам. Авторитеты же, напялив фраки, – на сходку: поцеловать коленку какой-нибудь неверной супруге красного командира, и далее с аппетитом по известному тексту.)
Тогда как мы с вами бесперечь наслаждаемся созерцанием бывших картин семьи Гонзага, бывшей ихней мебели: вы – в европейских музеях, я – в альбомах репродукций. (Картинами, кстати, не очень-то: самые лучшие Винченцо II и последний успел до разгрома толкнуть английскому королю, и, когда в Англии сложилась революционная ситуация, ликующие потомки зрителей Шекспира, нравственности для, пожгли еретическую – в смысле католическую – живопись на уличных кострах.)
Но Крайтону-то какое дело до нас до всех (а нам – до него) и до мантуанского суверенитета, не говоря о столовом серебре? И при чем тут справедливость? Немезида, главное, при чем?
Будете в Летнем саду – подойдите к ней поближе. Практически голая, в простынке, как бы прямо из сауны. Вся из натуральной мраморной крошки, точная копия той, из советского портландцемента, что была точной копией мраморной, так сказать, кусковой. (С падежными окончаниями разберетесь?) Эффектная такая, высветленная брюнетка. Дочь ночи от кого-то из основных. Жаль, выражение лица несколько тупое и как бы кислое. (Почему-то вспомнилось, как писал Чехов, рекомендуя Суворину заняться подругой Татьяны Львовны: она немножко халда, но это ничего.) А так – фигура гладкая, грудки тугие, прическа – волосок к волоску; носик опять же греческий. В правой руке (виноват, г-н Муратов: в деснице!) меч. Огромный, в половину ее роста (головка эфеса – на уровне пупка) – явно ей, сказал бы С., невподым. Похоже, кто-то, отлучившись (скажем, под предлогом нужды), попросил подержать. (Постой здесь минутку, я мигом. И – с концами. И одежду снес.) Воткнула меч острием в пьедестал, как перевернутый закрытый пляжный зонт, и опирается слегка. Никогда не спит – как акула. В режиме онлайн фиксирует каждую несправедливость. Дескать, ни одна не останется неотомщенной. Аз раздам – якобы недаром прозываясь Неотвратимой – всем сестрам. По серьгам – которая какую заслужила. И мышонок, съеденный кошкой, может твердо рассчитывать на достойную компенсацию и подобающую сатисфакцию за каждую свою невинную слезу. (Раньше надо было думать, кошка! А теперь поздняк метаться и рыдать.)