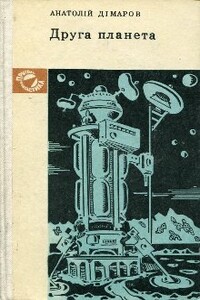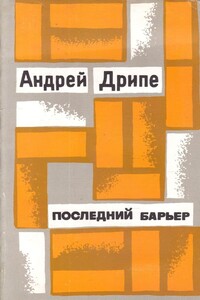И будут люди | страница 105
Нашли в кошельке свои пропажи и все домашние: Алексей — пояс, Оксен — брусок, Иван — картуз, а Олеся — бусы. Были там еще какие-то черепки, совсем уже ненужные бумажки, гвозди, пуговицы, гайки, — дед все запихивал в кошелек в жадном стремлении снова разбогатеть.
Похоронили деда, как доброго христианина, с батюшкой, дьяконом, певчими. Отец Виталий сказал волнующую проповедь о бренности этого и вечности того света, женщины растроганно сморкались, дядьки понурили простоволосые головы, покаянно шевелили усами.
Потом справляли поминки: сели за столы, расставленные прямо во дворе, под двумя огромными грушами, которые посадил еще дед. Все обошлось тихо и пристойно, никто не свалился под стол, только дьячок под конец начал вытирать тарелку посиневшим носом, но Оксен позвал сыновей, и те взяли духовную особу под руки и отвели в амбар, положили на рядно, чтоб отоспался.
Отец Виталий и Оксен почти не пили. Сидели рядом, Оксен почтительно угощал уважаемого гостя, но батюшка ел очень мало — попробует кушанье и отставит в сторону.
После поминального обеда пошли в сад: батюшка захотел прогуляться, осмотреть Оксеново хозяйство.
— Хорошо тут у вас, как в раю, — похвалил он, оглядываясь вокруг, — тихо, спокойно, божья благодать. Жаль, что матушки с нами нет.
— А вы и матушку привезли бы к нам, — сразу пригласил Оксен. — Пожили б здесь, сколько их душенька пожелала…
— Спасибо, Оксен, может, как-нибудь и соберемся, — пообещал отец Виталий. Потом, уже уезжая, пригласил Оксена к себе: — Заверните в будущее воскресенье ко мне. — И будто между прочим добавил: — Возможно, у меня гости будут, обещала приехать Таня.
Горячий румянец обжег смуглые Оксеновы щеки, он смущенно откашлялся, отвел глаза: с тех пор как познакомился с этой светловолосой девушкой, она частенько-таки занимала его мысли.
Он знал, что стар для нее, не смел даже надеяться на то, что она сможет полюбить его, но ничего не мог поделать с собой: юное лицо ее не раз выплывало в обманчивом свете ночной гостьи — луны, которая колдовала, заглядывая в окно единственным совиным глазом. Лицо Татьяны колыхалось перед Оксеном, подплывало к нему вплотную, трепетное и привлекательное, лукаво сверкало глазами. «Я так нравлюсь тебе?» — «Очень нравишься!» — «Так чего же ты не целуешь меня?..»
И не раз вскакивал с постели Оксен, держась за сердце, которое колотилось как сумасшедшее, шел к ведру, мочил холодной водой голову, чтоб остудить ее, а потом выходил во двор. Луна, как озорной ребенок, отскакивала от окна, чуть только хлопала наружная дверь, взбиралась по тонким, высоким яворам на какой-то там небесный припечек и выглядывала оттуда с невинным видом: «Я ничего не знаю, я ничего не слышала…» Долго стоял Оксен во дворе, тяжело дыша, а ночь колдовала над ним, терлась о его расхристанную грудь мурлыкающей кошечкой, касалась сердца мягкой лапкой: «Я хорошая, я добрая, доверься мне, и я дам тебе то, чего ты больше всего желаешь». И уже выводила из таинственно замершего сада легкие девичьи тени, вытканные из серебряного лунного света, и эти призрачные фигурки изгибались в дразнящем танце, манили его куда-то, звали за собой. «Свят! Свят! Свят!» — в страхе отступал Оксен к порогу, но в дом не уходил, потому что ночь, припав к его уху, продолжала колдовать, нашептывала свое и этот шепот проникал в самое сердце: «Чего же ты стоишь? Бери любую, какая тебе больше всех нравится, потому что все они любят тебя!»