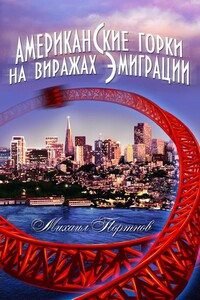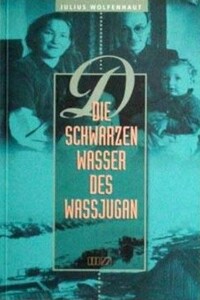Александр Шморель | страница 19
Няне как российской гражданке путь в Европу со стороны советских властей был фактически закрыт, и для неё пришлось выправить новые документы. Для этого был оформлен фиктивный брак с Иваном Шморелем. Феодосия Лапшина на время превратилась во Франциску Шморель, что хотя и не добавило саратовской крестьянке знаний немецкого языка, но позволило без особых приключений проследовать вместе с семьёй в далёкую и незнакомую Баварию. Путешествие заняло шесть недель. С трёхлетним Сашей, беременной женой и парализованной тёткой Эмилией поездка была сущей каторгой. Во время многочисленных пересадок Гуго Карлович переносил Эмилию, страдавшую рассеянным склерозом, на руках. В памяти всех ещё свежи были воспоминания о нелепой гибели тёщи — Маргариты Гофман в августе 1919 года, когда она, на пути из Оренбурга в Германию с тремя детьми, ночью на минутку отлучилась от стоящего поезда. Судьбой ей было дано оказаться как раз между двух вагонов, когда маневровый паровоз неожиданно дёрнул состав. Несчастье случилось на участке пути между сегодняшними Каунасом и Калининградом неподалёку от небольшого местечка Вильковишки. Тело Маргариты Гофман удалось доставить в Германию и похоронить там.
По приезде в Мюнхен жизнь стала постепенно налаживаться. Первые месяцы семья жила в Зольне — небольшом предместье баварской столицы, застроенном виллами состоятельных горожан. В августе, когда родился Эрих, всё внимание переключилось на нового члена семьи. Вскоре Гуго Карлович смог подтвердить свою врачебную квалификацию и открыть частную практику «Д-р Шморель». В этом ему помогли докторская работа, написанная ещё во время учёбы в Мюнхене, а также свидетельство некоего Фридриха Мауха из Базеля, в прошлом руководителя «Оренбургского Комитета по оказанию содействия германским и австрийским подданным». Маух подробно и в превосходных тонах осветил деятельность врача Шмореля с начала Первой мировой войны и вплоть до отъезда Гуго Карловича из Оренбурга. В конце этого же года семья обрела и своё собственное жилье. Такой щедрый подарок родне сделал Людвиг Бамбергер — компаньон Егора Егоровича Гофмана и совладелец оренбургского пивоваренного завода, «дядя Людвиг», как его звали дети. Он приобрёл для Шморелей замечательный дом в мюнхенском районе Ментершвайге.
Покинув Россию, Шморели сохранили оренбургские традиции: на обед были пельмени и блинчики, самовар на столе являлся обычной частью сервировки и никто в семье не воспринимал это как дань тоске по утерянной родине. Дома родители говорили по-русски. Дети, игравшие со сверстниками на улице, без труда впитывали в себя язык чужой страны, но русский всё же преобладал. Поэтому когда Наташа пошла в школу, то сверстники поначалу даже подсмеивались над ней из-за её неважного немецкого. И тем не менее Шурик получал ещё частные уроки русского у православного священника. Позже к Шморелям каждую неделю приходил некий господин Налбандов, который преподавал детям русскую азбуку и грамматику. Эрих с удовольствием вспоминал, как с этим учителем они читали «Войну и мир» Толстого и пушкинского «Евгения Онегина». Книги, в первую очередь русская классика, стали верными жизненными спутниками младшего поколения Шморелей, но осознание этого пришло позже. Многие картины тех лет уже стёрлись, но в детской памяти остался визит царского генерала Сахарова, приглашённого родителями на чай. Не был ли это их земляк, уроженец Оренбурга, внук священника и выпускник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса знаменитый генерал-лейтенант Константин Вячеславович Сахаров? Видный деятель Белого движения в Сибири, бывший генералом для поручений при Верховном главнокомандующем адмирале А. В. Колчаке, командовавший армиями, в 1920 году эмигрировал в Японию, затем недолго пожил в США, а в октябре 1920 года прибыл в Германию, где принимал участие в монархическом движении. «В советской революции виноваты только жиды», — гость смаковал эту мысль, произнося слово «жиды» с грубым непонятным акцентом. Эрих помнит, как ему, маленькому мальчику, и маме не понравилось, что генерал избегал слова «евреи». Да и нелады с русским произношением у «радетеля за Отчизну» оставили в душе довольно неприятный осадок.