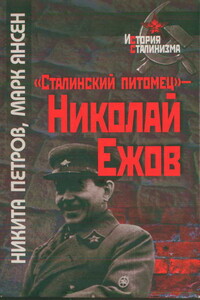1937 год: Н. С. Хрущев и московская парторганизация | страница 87
В Советском районе одним из первых почувствовал это на себе старый большевик, председатель ВОКС Александр Яковлевич Аросев. Благодаря его дневниковым записям на ход кампании по перевыборам партийных органов можно взглянуть с точки зрения одного из критикуемых высокопоставленных чиновников. 19 марта он с негодованием записал в своем дневнике: «Какой-то интриган на активе московской парторганизации назвал меня “партийным барином”. Назвавший меня так несомненно был партийный “баран”. Если бы он знал, какую черную надсадную работу выполняет этот “барин”!» [429]Надо заметить, такое мнение об Аросеве не было новым. Еще в начале 1929 г. Е. Ярославский писал Г.К. Орджоникидзе: «По вопросу о моем выступлении по поводу т. Аросева. Поступило в ЦКК заявление работника разведупра т. Коневского о некоммунистическом образе жизни и поступках т. Аросева. Я запросил у Аросева объяснения. Либо надо дальше вести следствие, либо удовлетвориться объяснениями т. Аросева. Мы обсудили это дело вместе с т. Шкирятовым. Уже после возвращения из Ковно в Москву Аросев взял отпуск и покатил в Берлин лечить зубы (вставить зубы). Я и Шкирятов знаем Аросева с 1917 г. очень близко. На нас его поведение произвело такое впечатление, что он стал барином, что ему вреден, как партийцу, дальнейший отрыв от СССР, что ему надо стать ближе к рабочей среде»[430].
На предъявленные обвинения требовалось ответить. Уже 20 марта 1937 г. Аросев фиксирует в дневнике: «Утром из ЦК телефонировал Ангаров: у Вас в ВОКСе непорядки, разгоняете коммунистов и т. д. (сплетни и клевета Белянец) и почему вы не идете на районный актив ответить на выступление против Вас (меня). Ответил, что пойду завтра» [431].
После звонков Ангарова и Хрущева с вопросами, почему Аросев не выступает с ответом на районном активе, тот поехал туда. 21 марта в дневнике появилась запись: «И вот я на активе. Возьму завтра стенограмму моей речи. На работе все смотрят на меня враждебно. Насмешливо перешептываются. Моего выступления ждали, как аттракциона. […] Избави бог сказать, что Белянец неправа, публика на ее стороне. А между тем ведь факт, что Белянец все от корки до корки наврала. Меня вызвали к трибуне, и я прямо начал с изложения того, что представляет собою наша организация (ВОКС) и о недочетах в работе самой Белянец и ее характеристики. Кричали враждебно. Щелкали зубами. Хулигански ставили вопросы. Распоясались. Будто бы рады бить старого большевика. Я отвечал на каждую реплику. Ничуть не каялся. (Разве только в том признал себя виновным, что в ВОКСе были обнаружены троцкисты.) Закончил тем, что считаю долгом говорить правду, нравится она или не нравится. Ни одного хлопка. Присутствовали Стасова и заместитель] Ягоды Прокофьев. Сошел с трибуны под гробовое молчание. Сразу стало холодно, будто я в классово чуждом обществе. […] Все эти молодые люди между собой молчаливые, на трибуне велеречивые (у них есть представление о трафарете, как надо произносить речь, как “молиться”). Они такие угрюмые, так утомлены ненужной хитростью, так копошатся в маленьких-маленьких делах, что за них вчуже делается страшно. Они не знают, как делалась революция, мы их уже не совсем понимаем. Один участник спрашивал меня, почему все каются и никто не анализирует хотя бы условий, которые вызвали ошибку в работе»