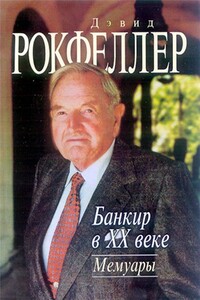Homo ludens | страница 41
Мариэтта Чудакова, Зиновий Паперный и Александр Чудаков в байдарочном походе по рекам Средней Карелии, август 1971. Фото В. Паперного
Он умел и любил уважать и любить достойных любви и уважения. Редкое качество в литературно-филологической среде 1960–1980-х годов.
Он умел и любил видеть смешное. Оттенков его он различал не меньше, чем коренные жители Крайнего Севера – типов снежного покрытия. Смешное в печатной литературе то и дело заставляло его браться за перо. Когда же он встречал смешное и отвратительное вместе – тут и рождался такой шедевр, каким, несомненно, стала и останется в истории жанра его знаменитая пародия на роман Всеволода Кочетова, освободившая его от партийного билета.
Слово «освободившая» здесь уместно – видимо, освободилась голова для размышлений, в результате которых он, к неприятному изумлению многих сотоварищей по цеху и тем более по партии, обратно проситься, когда пришло для этого время, не стал: понравилось.
Но вернемся к смеху, смешному.
Веселье, юмор, уменье видеть комизм в поведении своем и других. Рефлекторное отталкивание от пошлости – особенно специфически-литераторской (читая в очередных «непридуманных историях» фразу «Ну-ну, – иронически подумал я», я и сегодня автоматически представляю себе реакцию З. С.).
При этом решительное отсутствие склонности к иронии – к той, что заменяла мысль и эмоцию и давала о себе знать характерной не сходящей с лица интеллигента тех лет гримасой (отнюдь не улыбкой!), которую я называла тогда прогрессистским оскалом. Вот этого – «Ну конечно! Еще бы! Чего же можно было от них ожидать другого?» – З. С. был начисто лишен. Он воспринимал текущую жизнь не с иронией, а с юмором. Он не был ею подавлен. Он не оскаливался болезненно, а именно смеялся и заставлял смеяться других. В глубинных, не поверхностных слоях это был неизменно ценностный смех.
Не переносил патетики. Не мог выдержать, чтобы серьезная нота – в связи с чем бы то ни было – длилась дольше определенного короткого отрезка времени. Психологический облик российско-советских литераторов в описываемые годы сводился к двум основным типам: 1) полное довольство собой, своими книгами, своим жизне-положением (охотные повествования обо всем этом за ресторанным столиком ЦДЛ, в Домах творчества и т. д.); 2) полное недовольство всем – в первую очередь своим положением. Паперный, как Евгений Шварц, не стеснялся радоваться факту своего существования. Это поведение было – да и осталось – маргинальным для тех, кто привычно числил себя в рядах русской интеллигенции.