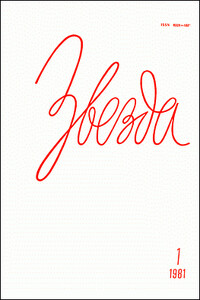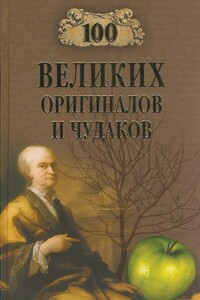Homo ludens | страница 40
О Зяме я могу думать и говорить бесконечно. Может, это звучит пафосно, но он, можно сказать, главный человек моей жизни.
Я верю, что с физическим уходом человека не умирает его душа. Остаются его книги, выступления, и пока живы родные и близкие ему люди – и он жив. К счастью, у Зямы остались дети, внуки, а теперь и правнуки.
А я только могу благодарить Бога, судьбу и дело, которым я занималась, за то, что подарили мне счастье быть с таким необыкновенным человеком.
Друзья и коллеги
Ираклий Андроников, Сергей Смирнов, Булат Окуджава, Зиновий Паперный, 1970-е. Архив Э. Паперной
Мариэтта Чудакова в своем рабочем кабинете, 2008. Фото В. Паперного
Мариэтта Чудакова
Смех вместо слез
…Не в шитье была там сила.
Есть человеческие качества, не зависящие от времени и места, уготованного для их носителя, – просто в одном времени и месте они встречаются реже и выглядят, может быть, экзотичнее, чем в других. То время, в которое прошла большая часть жизни Зиновия Самойловича Паперного, которое формировало его, уминая одни свойства личности и выдвигая другие, не располагало к сохранению у сильного пола мужских качеств характера. Представление о мужском поведении размывалось, а к началу 1970-х годов почти вовсе размылось. Люди литературной и окололитературной среды приобрели привычку показывать большим пальцем куда-то за свое плечо или вверх, в потолок, где располагалась инстанция, ответственная за их поступки. Зиновий Самойлович как-то очень естественно продолжал оставаться образцом повседневно-мужского поведения. Стопроцентная надежность, готовность в любой момент принять на себя полноту ответственности – вот что позволяло чувствовать себя рядом с ним и в совместных профессиональных делах, и в байдарочном походе как с человеком, на которого можно положиться. Ощущение, ничем, решительно ничем не заменимое.
У него было органическое чувство достоинства. Когда профессиональная жизнь того оставшегося в ушедшей исторической эпохе персонажа, который назывался «советский литератор», ежечасно зависела от множества мелких и крупных функционеров партии, в их руках в почти буквальном смысле находилась – а Паперный и был в первую очередь литератором, литературным работником, – когда унижение было разлито, кажется, в самом воздухе времени, – нельзя было представить людям, знавшим его, чтобы он позволил унизить себя кому бы то ни было, чтобы он стерпел чье-то хамство. Его реакция в этом случае опережала мысль о самосохранении или благосостоянии (а от степени выдержки оно в те поры в немалой степени и зависело). Подумаешь, скажут, невидаль – не терпел хамства! Не скажите.