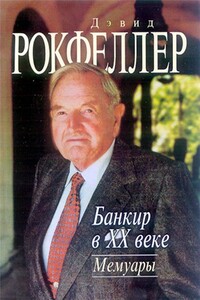Homo ludens | страница 42
Когда в 1972 году я ему рассказала, что О. Г. Олеша отказалась – по телефону – принять от меня в подарок экземпляр только что вышедшей моей книжки об Олеше («Все-все возмущены, – сказала она, – говорят, это же концепция Белинкова»), он сказал с возмущением, что «есть вдовы, состоящие при трупе». И тут же увлекся: «Это уже не живой труп, а жилой труп». Он будто терял иногда власть над комическим, прозреваемым им повсюду, безвольно отдаваясь этому устройству своего зрения.
Но и безвольность не разрушала этическую основу его поведения (по крайней мере в том зрелом возрасте, в котором я узнала его, – начиная с середины 60-х).
Он и себя постоянно видел со стороны комической, так же невольно это описывая. Пришлось увидеть, как в самые трагические минуты своей жизни он стремился привычным самоописанием как-то смягчить для окружающих ужас происходящего с ним. На похоронах двадцатишестилетней дочери Танечки, любимицы всей, смело можно сказать, гуманитарной Москвы, он, считавший себя косвенным виновником ее самоубийства, стоял, напичканный транквилизаторами, еле держась на ногах. Его давний друг Лидия Либединская молча сунула ему в рот зажженную папироску (в обычной жизни он не курил). З. С. пробормотал: «Родил сына, потерял дочь… Не жизнь, а ЖЗЛ… ЖЗЛ в траурной рамке».
Он был жизнелюбив – но полностью лишен упоения собой. Его мучили жестокие депрессии.
Из чего складывалась социальная жизнь интеллигенции 1960-х – середины 1980-х годов – вне непосредственно профессиональных занятий? Из домашних встреч, больше напоминавших сходки, чем, скажем, американское party. «Надо собраться!» – говорили, случайно встретясь. Собирались на посиделки. Делились соображениями о текущей жизни, но главное – сообщали друг другу новости. С того времени, как с середины 1950-х вернулась возможность более или менее свободных разговоров в кругу «своих», важной частью повседневного общения стало пересказывание слухов о событиях.
Что же считалось событием? Любые действия во враждебном стане: во власти. Ведь информации о том, что у них там происходит за закрытыми и даже полуоткрытыми дверями, не было – только зарубежное радио и передача слышанного где-то от кого-то. О том, скажем, что цензура сняла что-то из текущего номера журнала, а после так называемого общественного просмотра закрыт инстанциями очередной спектакль, можно было узнать только изустно.
Были записные рассказчики, умевшие воспроизводить новости в виде повествования или сценок. Ведь это все были новости из коридоров ЦК – главным образом из отдела, понимаете ли, культуры. Трудно было найти тональность для изложения слухов о суждениях этих людей, которым мы знали цену и от которых зависели.