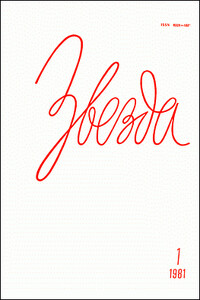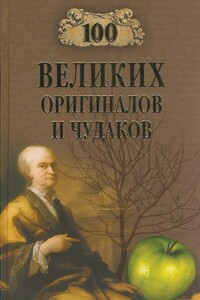Homo ludens | страница 35
У Зямы был звонкий сильный голос и отличный слух. Скажу сразу, я завидовал его пению. Он пел, как разговаривал. Так, разговаривая, пели Бернес, Утесов, Олейников. Конечно, Зяма не занимался пением, не считал себя певцом, но если бы захотел, мог бы петь суперкруто. Он не манерничал, не изображал вокал, ничего не демонстрировал, просто разговаривал, и это было выразительно. Собственно, это касается всего Зямы целиком. Он никогда ничего не демонстрировал и не играл. Когда-то Зяма написал книгу про Михаила Светлова, которая называлась «Человек, похожий на самого себя». Про Зяму то же самое можно сказать. И это большая редкость. Все что-то из себя строят, когда сочиняют, поют, пишут, говорят, дальше можно перечислить все глаголы русского языка. В его текстах слышен его голос. Это не написано, это сказано. Точно, так, как это мог сказать только Зяма.
Закончить я хочу Зяминой песней, которую запомнил наизусть с первого раза. То есть один раз услышал и запомнил. Несмотря на ненормативную лексику, а может быть, как раз благодаря ей эта песня сегодня очень актуальна. Она исполняется на мотив «Две гитары за стеной».
Приглашение на совместный вечер Алексея и Зиновия Паперных, 1990-е
Зиновий Паперный и Вениамин Каверин, 1980-е. Архив семьи Паперных
Митя и Зяма, 1983. Архив семьи Паперных
Дмитрий Паперный
Мой дед З. П
Я стою с Вадиком посередине Лесной, напротив нашей калитки, и изо всех сил пытаюсь разглядеть маленькую фигурку, только что появившуюся у Дальнего Поворота. На веранде уже зажгли желтый абажур – в августе в Баковке начинает рано темнеть. Зяма должен приехать из Москвы на электричке, и я очень хочу увидеть его первым. Мне шесть лет. «Это Зяма», – говорит Вадик уверенно. Я не вижу ничего, кроме невнятного серого очертания идущего человека. «Неправда, – говорю я, – ты не можешь видеть его лицо в такой темноте, это может быть сосед дядя Гриша, или папа Андрея, или…» – «Посмотри, как он быстро идет и размахивает руками, – перебивает Вадик. – Это Зяма, это его походка, он даже наверняка что-то поет».
Перед выпускными экзаменами в десятом классе всей семьей была предпринята попытка исправить мои предполагаемые оценки с двойки до хотя бы тройки. Бабушка Ира, бывшая преподавательница английского в нефтехимическом институте, налегала на герундий и согласование времен, бабушка Лера занималась со мной диктантами и российской историей, а друг семьи Гарик пытался объяснить математику уровня шестого класса. Зяме была доверена литература. Я ездил к нему на трамвае с мешком учебников и списком тем для билетов, и мы запирались у него в кабинете – предполагалось, что Зяма будет диктовать мне ответы на вопросы, а я их буду записывать и заучивать. Диктовки Зяме хватало ровно на одну минуту, после чего он начинал рассказывать литературные анекдоты и случаи из жизни разных писателей. Я сидел с раскрытым ртом и даже не пытался ничего записывать – поспеть за Зямой было невозможно. Больше всего мне нравились его рассказы о Чехове и Маяковском. Зяма ходил по комнате, декламировал стихи, читал чеховские рассказы и тут же комментировал их отрывками из чеховских же записных книжек – он помнил их наизусть. Устоять против такого натиска было невозможно: каждый вечер, вернувшись домой, я раскрывал первый попавшийся том Чехова и читал его всю ночь. После трех недель занятий единственная запись в моей тетради начиналась с «Пушкин был великий русский поэт…» и на этом же обрывалась, зато на экзамене по литературе я получил пятерку с плюсом, изящно обрамленную тройками по всем остальным предметам. В семейной эстафете ускоренного обучения меня наукам Зяма стал абсолютным чемпионом, чем он потом очень гордился.