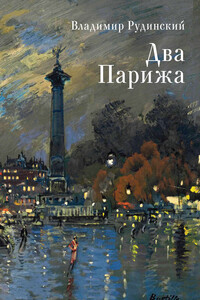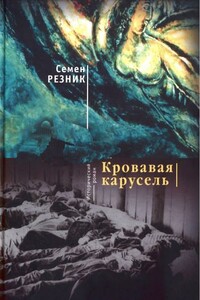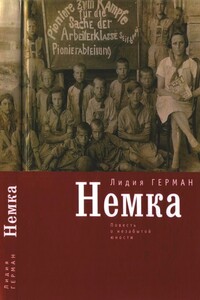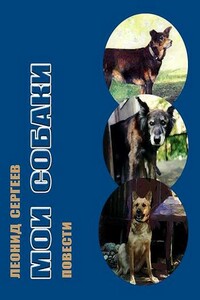Дуновение из-за кулис. Записки драматурга | страница 68
В Москву он приехал непьющим и даже ханжой на этот счет, как это часто бывает с «завязавшими» (это он устроил общественную выволочку поэту, который начинал пьянку с утра). Был мой сосед высок ростом, стрижен «в скобку», с крупными чертами удлиненного лица и жестким ртом, обложенным по краям морщинами. Сам себя, глядясь в зеркало, называл «чувырло». Раз в месяц он красил волосы в общем умывальнике. У него был густой баритон, который он охотно форсировал в разговоре, особенно когда кого-нибудь обличал. Мишенью его обличений чаще всего были какие-то отвлеченные «модерниствующие», «каста комбинаторов», «псевдоноваторы», «супермены», губящие Россию. Апофеозом негодования был вопль ярости, обращенный к ним: «Матку-то не выламывайте!..» В эти минуты жилы на его шее вздувались, глаза стекленели, а тонкие губы исчезали совсем – он был страшен, это было неприятное зрелище. Доставалось от него и стукачам, которые «без вопросов» затаились на наших курсах, и которым он «оторвал бы яйца». Он привез две брошюрки стихов, изданных местными издательствами, и сейчас голос его гремел, а шея напряженно краснела, едва только речь заходила о московских издательствах, где, конечно, засели «мафиози», «серые кардиналы» издательской политики. Работникам этих издательств, которые он обходил по очереди каждый день, я не завидовал.
Но вот что меня с ним примиряло: у него были неплохие стихи. Казалось, их сочинил тихий человек, провинциальный философ и созерцатель, живущий в согласии с миром и Богом. Бог, правда, там не упоминался, но божья благодать во всех этих стихах о природе была разлита. Может быть, это и было его потаенной сутью, и за грубой его оболочкой скрывался нежный и кроткий лирик? Он имел дар тихого, миролюбивого общения, поэты-»самородки» охотно сиживали у него, как он говорил, «тет-а-тет», он был для них в какой-то степени авторитетом, и за его дверью часто слышалось негромкое ритмическое журчание. Я и сам охотно откликался на его приглашения, у него всегда был чай «со слоником», которого я никак не мог в Москве достать, к чаю и сливки, и лимон. Иногда он угощал тарелкой домашнего борща, уютно управляясь с половником. Его «спидола» всегда была настроена на волну джаза, он даже спал с включенным приемником – у него были проблемы со сном. Он скупо рассказывал о себе и много позже я понял, что сам был откровеннее с ним, чем он со мной. Речь его, всегда свежая и стилистически выдержанная в стихах, в устном варианте была мешаниной из разных пластов и стилей, речью типичного маргинала, причем, набор слов был утомительно однообразным: всегда «ипостась», всегда «заумь» и «монстр», обязательно «компостировать мозги», и конечно, «амплуа» и «карт-бланш», ну, а между ними вполне стертые слова и заношенные выражения.