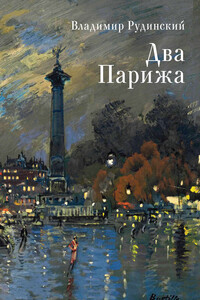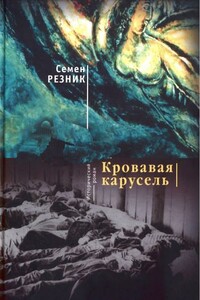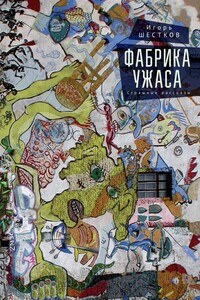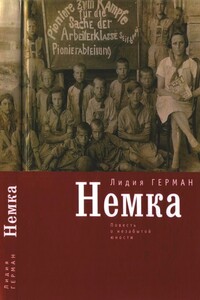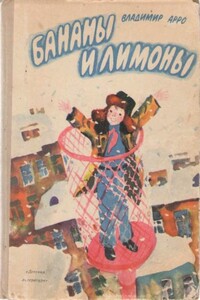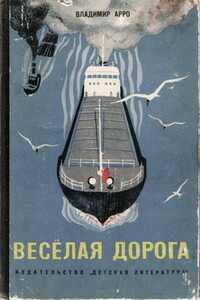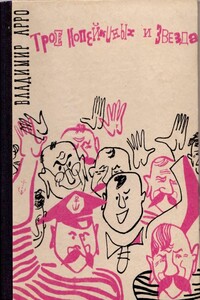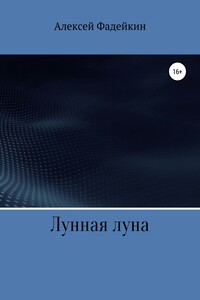Дуновение из-за кулис. Записки драматурга | страница 69
Когда-то он закончил культпросветучилище и теперь получал высшее образование, но точнее будет сказать, оберегал от него свой природный дар, прикасаясь к знаниям исключительно выборочно и как-то даже брезгливо. Записей он не вел, книг, кроме стихотворных сборников и детективов, я у него не видел, московские музеи и театры, сколько я знаю, обходил стороной. Иногда, побрившись, начистившись, он уходил в ЦДЛ, сидел там одиноко в кафе, трезвый и зоркий, наблюдая, как он говорил, «кто с кем». Однажды отправился и в Переделкино, к поэту, известному не только стихами, но и искусной игрой на гармошке, но вернулся скоро и тут же заперся, видно, не был принят.
Как-то раз, уже навоевавшись с издательской «мафией» и отчаявшись что-нибудь в Москве напечатать, пришел домой довольный, умиротворенный. «Нашел, наконец, своих, – сказал он, – взяли стихи. – Где? – В «Советской России», там есть такой Чикин.» Видимо оттуда принес он несколько дней спустя книгу в мягком переплете, без выходных данных, изданную, надо полагать, КГБ. Это было сочинение некоего Валерия Емельянова, кандидата наук. Автор прослеживал с фактами, как ему казалось, в руках долгий и тайный процесс сионизации русской жизни – от хазарского каганата до советского Кагановича. И, разумеется, далее, вплоть до наших дней, когда Москва, если взглянуть на нее с самолета, все более, якобы, стала принимать очертания могендовида. Книга, видимо, долго гуляла по общежитию, потому что ко мне попала сильно зачитанной. Возвращая её, я захватил с собой томик Дмитрия Сергеевича Лихачева, раскрыв его на «Заметках о русском». Но как потом выяснилось, академик не выдержал конкуренции с кандидатом: «Путаник ваш Лихачев», – сказал мне мой сосед, криво усмехаясь. (Позже я где-то прочел, что автора книжки судили за убийство жены, признали невменяемым, поместили в больницу, но, как известно, дело его не пропало).
После этого наши отношения с соседом похолодали. Я больше не ходил к нему пить чай, но живя дверь в дверь, мы не могли не общаться. Он по-прежнему тянулся ко мне, при случае, демонстрировал широту взглядов. Я же надеялся, что художественная одаренность и некоторое здравомыслие выведут его из сумрака злокачественных заблуждений. Арцишевский не разделял моего оптимизма: «Окстись! Чадящие мозги!..» Они друг друга не выносили.
Имелись у него какие-то отношения с начальством в «большом» Союзе, на Поварской. Однажды он простодушно признался: «Ходил ссуду выпрашивал. Не могу без денег. – Ну и что? – Да пообещали…» Ближе к лету ему вместо ссуды дали творческую командировку на Север. Его, видимо, больше всех из нас томили мысли о будущем. В Астрахань возвращаться ему не хотелось, в Москве перспектив не было. Одиночество и бессонница доводили его порою до такого состояния, что он опускался в какую-то беспросветную трясину, не ходил на занятия, лежал у себя в комнате, которая за несколько дней превращалась в смердящую берлогу. Бывало, что мы вызывали к нему врача. После одного из таких провалов он, побывав в очередной раз у начальства, пришел ко мне. «Вот что. В Калинине скоро нужен будет ответственный секретарь областной писательской организации. Пойдешь ко мне заместителем?..» Не найдя на моем лице ничего, кроме недоумения, пояснил: «А что, будешь сидеть писать, московские театры близко… А на совещания буду ездить я. У нас вместе бы получилось. Обдумай». Больше мы к этой теме не возвращались.