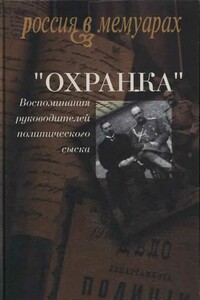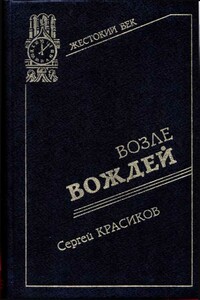«Печаль моя светла…» | страница 56
Некоторые эпизоды взаимовыручки даже в это ужасное время, когда в Полтаве многие пухли от голода и был настоящий разгул послевоенного бандитизма, дистрофии и порой уличных смертей, забыть просто невозможно. Как тетя Валя Окунева буквально уговаривала мою маму взять у нее ведро картошки, трогательно расхваливая свой «богатый» урожай с крошечного огорода в тени очень раскидистой груши; как мать Виты, работавшая на железной дороге и привозившая откуда-то продукты, рано утром прибегала и совала через нашу дверь с цепочкой на пол какие-то съестные свертки, боясь нас разбудить и слышать слова благодарности; как Тамара Петровна присылала издалека свою племянницу чуть постарше меня с тем, что «нам Бог послал, а вам нужнее». Наверное, и наши родители старались помочь тем, кому особенно плохо, раз не только наша тетя Мара так считала, но и тетя Паша Хоменко потом говорила бабушке, что без мамы не выжила бы. Да и не она одна, так как у папы всегда были «крестники» из детей сослуживцев. Но, разумеется, и тогда тоже люди жили по-разному.
Так, в наш коридор, ставший коммунальным, выходила одна из «институтских» комнат, где поселилась очень колоритная и уже немолодая супружеская пара: высокий плотный и совсем седой полковник и его моложавая черноглазая жена. Теперь понимаю, что это был тот типичный случай социального лифта, о котором как обычном варианте в Красной армии 30-х годов размышлял маршал Г. К. Жуков. Бывший бухгалтер и красный политрук, Владимир Александрович романтически «умыкнул» свою красавицу Марусю из казачьей станицы в 16 лет, детей у них не было, и всю жизнь Марья Тимофеевна ездила за ним по воинским частям, даже не делая попыток учиться или работать, но тщательно следила за собой и гордо держала марку «супруги полковника Малинина». К счастью для них, тогда еще он не был демобилизован и, видимо, получал достаточно весомое денежное содержание. В самую жуткую голодовку общительная Марья Тимофеевна приносила с рынка живых кур, о которых не очень осмотрительно всем встречным знакомым объявляла: «Вот, глядите, несу котлетки для полковника Малинина». При этом всегда носила этих несчастных пернатых в сетчатых авоськах и оставляла на стуле в коридоре перед своей дверью. Но курам в преддверии казни не молчалось, и они понемногу начинали кудахтать, причем это нарастающее кудахтанье, а потом и сводящий с ума аромат бульона или котлеток разносились не только по всему нашему дому, но и по всему двору. Голодному народу из наших соседей оставалось только вдыхать давно позабытые запахи и бурчать что-то вроде «Опять покушает полковник Малинин за всех нас». Сама же Марья Тимофеевна вела себя очень комично. Она время от времени выглядывала в коридор и уговаривала будущую жертву: «Погоди, курочка, погоди, милая, сейчас, сейчас, я тебя зарежу!» Ее успокаивающие слова так смешили папу, что он тут же расширил свой педагогический репертуар: стал ими стращать проштрафившегося Кольку наряду с ремнем, о котором обычно грозно вспоминал: «Где мой Песталоцци?» (Отец справедливо подозревал, что Коля о таком педагоге – противнике насилия не слыхивал, и брат долго простодушно считал незнакомое слово чем-то вроде синонима ремня.) Конечно, куриных котлеток никому, кроме полковника, никогда не перепадало, а вот на забракованные куриные останки и щедрые картофельные и прочие очистки Марьи Тимофеевны претендовали многие, а потому зорко караулили ее пищевые отходы, однако все же стесняясь этого и стараясь не попадаться на глаза соседям.