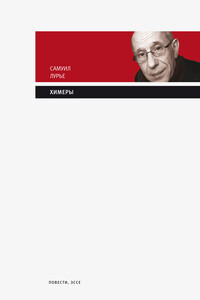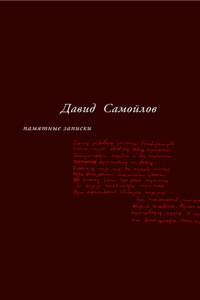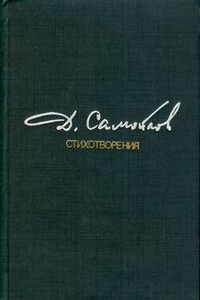Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х | страница 36
03.11
12.12
27.12
Нестеровский[105], жестоко скучающий в неуютной и скудной редакции бригадной газеты. Высокий, с лицом Черкасова, с большими, нескладными руками. Хорошо знает современных французов и очень плохо современных русских.
Мы с ним сошлись, и я, проголодавшись по нежности, сразу ее почувствовал.
«О поэзии у меня особое мнение. Сейчас ее нет, – говорит он. – Симонов – мещанский писатель». Обо мне он отзывался, как и все другие: «Здорово, но слишком умно. Это – головная поэзия. И это не для всех». И попросил: «Прочтите что-нибудь другое, лирику».
31.12
Что же делать? Я на пороге двадцати четырех лет. И ничего еще не сделано. Время уходит и вместе с ним надежды быть полезным. Двадцать четыре года! Для поэта это зрелость, для прозаика – молодость, для ученого – пеленки. Но плоды дает нормальное детство. А я…
1944
09.01
Неделями мне не удается подумать о стихах, даже записать несколько строчек в записную книжку. Я растрачиваю себя на сидение взаперти над раздражающими бумагами. ‹…›
Волгу я вижу только из окна. Она – белая, ровная плоскость.
Стихотворения
Пьяный корабль (Из Артюра Рембо)[106]