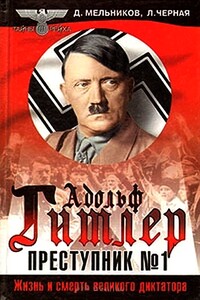Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего | страница 39
Но вот судьба подкинула нам замечательный подарок, не столько судьба, сколько западногерманский писатель Генрих Бёлль, очень полюбившийся у нас в CCCP. Бёлль еще не приезжал в Советский Союз, но уже знал, что Д. Мельников из Москвы хочет написать историю фашизма, а его жена Люся Мельникова — вернее, Lusja Melnikow (для немцев в обеих Германиях я всегда была фрау Люся Мельникова, такого баловства, как две фамилии в одной семье, они не признавали!) — переводит его повести и романы.
И вот однажды я получила почтовое извещение на это странное имя. Официально я именовалась Людмила Борисовна Черная — такого персонажа, как Люся Мельникова, у нас в стране не существовало. Почему я, а не Д. Е.? Видимо, в целях конспирации. Ведь Д. Е. работал в престижном журнале, представлял, как казалось на Западе, «влиятельные круги советского общества».
В сталинские времена даже одна перевранная буква в имени, отчестве или фамилии привела бы к непредсказуемым последствиям вплоть до ареста: «Почему вы дали неверные сведения о себе? Хотите обмануть, скрыть свои темные (шпионские) дела?»
Итак, пришло извещение…
Но прежде я должна описать антураж, декорацию, интерьер, в котором все это разыгрывалось, — без декорации не будет понятно, что жизнь наша была полна контрастов. С одной стороны, Генрих Бёлль, немецкий писатель, в будущем лауреат Нобелевской премии, с другой, наша коммуналка — обиталище мое, мужа и детей, Алика и Аси.
Находилась она в не очень престижном районе, хотя в центре. Окраины Москвы еще не были застроены. Называлось это место Цветной бульвар. Чахлый бульвар и впрямь разделял довольно широкую улицу. Перед ним впритык шли две рельсовые колеи — трамвай ездил в обе стороны. Налево — к Трубной, направо — к Самотеке. Трамвай звонил, машины гудели. Напротив нашего дома, через бульвар, был цирк, столь любимый москвичами, и Центральный рынок. Рядом с цирком и рынком дома выглядели и поновее, и покрасивей. А на нашей стороне бульвара стоял ряд одноэтажных и двухэтажных похилившихся лачуг. Дом наш уже тогда выглядел отвратительно: обшарпанный, с рядами маленьких окошек, часть которых выходила в переулок (названия не помню), а часть — во двор, где не росло ни травинки, ни деревца. В переулке находилась… лесопилка, и сельский визг пил вливался в городскую какофонию.
Но внешний вид дома был куда прекраснее, нежели его внутренность — огромная квартира, где мы обитали. Позвонив со двора, вы поднимались по довольно широкой, но месяцами немытой лестнице на площадку, по обе стороны которой тянулась наша коммуналка. Налево был большой холл, а может, зал или просто передняя с паркетным полом, от которой отходили пять дверей — за четырьмя из них жило по семье. Одна семья имела две двери, как ни странно, не рядом, а через переднюю-холл. По другую сторону лестничной площадки было огромное, полукруглое, как мне сейчас кажется, помещение: очень высокий зал, грязный, с закопченным потолком. Зал служил кухней, в нем стояли восемь или девять столиков-тумбочек и несколько газовых плит. В конце этой кухни была маленькая раковина с медным краном — там умывались все жители квартиры. Налево в стене была еще одна дверь. За ней тоже жила семья — муж с женой. А рядом находилась небольшая выгородка, нечто вроде объемного шкафа — в ХХ веке такие шкафы именовались «шкафами-купе» — в этом шкафу-купе помещалась уборная. И сосед, проживавший вплотную к выгородке, писал в заявлениях, что их «заливает фекальная жидкость», и просил дать им с женой более приспособленные для жилья «квадратные метры».