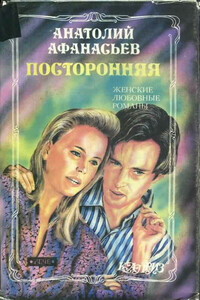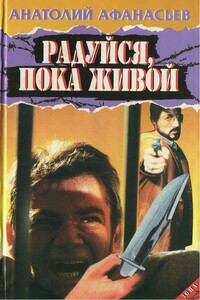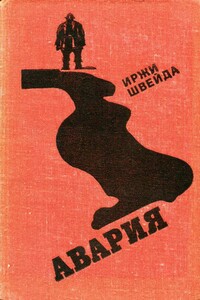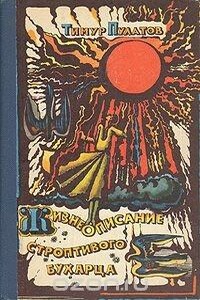Искушение | страница 52
Ну а уж вечер прошел под знаком Антона Вениаминовича, великого врачевателя женской души. Ох, как умел ухаживать этот большой красивый человек и как лестно было Вере Андреевне опять и опять растворяться в упоительной рабской преданности художника, обыкновенным знакомством с которым любая женщина была бы горда. А у них было не обыкновенное знакомство, третий год тянулся их роман, но ни капли не потерял остроты и прелести. Напротив, суматоха и истеричность первых встреч, когда Вера упорно отказывала художнику в окончательной близости и он, сумасбродствуя, изнывая в любовном недуге, преследовал ее точно юный фавн, — ненадежность тех встреч сменилась умиротворенностью и нежностью, которые делали каждое их свидание похожим на сказку, рассказанную на сон грядущий добрым человеком. Антон Вениаминович был женат, имел сына и, кажется, с уважением относился к своей жене, это, наверное, и останавливало Веру, отпугивало. Не хотела она опускаться до пустой интрижки. Но чувства художника оказались глубже, чем ей почудилось в первые дни, да и она сама вскоре, утолив любопытство, стала испытывать к нему искреннюю привязанность, замешенную на благодарности и сочувствии. Все врут люди про злых разлучниц, думала Вера. Можно быть счастливой и дать счастье другому, ни у кого ничего не отнимая. Так ей хотелось думать, так она и думала, не договаривая себе всей правды. А правда была хотя бы в том, что Антон Вениаминович все настойчивее уговаривал ее радикально изменить жизнь, ибо ему невмоготу было изворачиваться и вести двойную игру. Он прямо сказал, что хочет на ней жениться и иметь от нее детей, а старую семью оставить. Благо, сын его поступил в институт, то есть встал на ноги. И вот тут-то Вера поняла, что вовсе не стремится замуж за обаятельнейшего Антона Вениаминовича и рожать не испытывает никакого желания, ее вполне устраивает нынешнее положение. Если это дурно, рассуждала Вера, то, значит, она дурная особа, но еще хуже было бы выйти замуж и стать плохой женой. Художник был уже немолод, повидал кое-что на своем веку и понимал, что если женщина отказывает мужчине в такой, собственно, мелочи, как брак, то скорее всего она попросту к нему безразлична. Он вдруг делался насуплен и суров, начинал тоном учителя упрекать ее в том, что она его не любит; Вера, тихо торжествуя, всячески его разубеждала, и все это в конце концов выливалось в восхитительные любовные объяснения.
На сей раз художник повел ее в театр, о котором со-совсем недавно заговорили — там все было необычно, ново, свежо, и публика была особенная, и спектакль, и стихи, и музыка, и юные актеры, полные какого-то исступляющего задора. Трудно было понять, талантливо ли все это, но зато уж точно празднично, как на карнавале. Незнакомые люди смотрели друг на друга с приязнью, породненные на один вечер прикосновением к малодоступному для многих таинству. Вера и насмеялась, и наплакалась, а Антон Вениаминович, кажется, вовсе не смотрел на сцену, одной ею любовался и лелеял свою горькую думу. Оттого, что он сидит рядом и держит ее руку в своей, оттого, что он, грозный для других, покорен ей, как домашний песик, Вере Андреевне хотелось быть особенно милостивой и доброй или, может быть, самой выскочить на сцену и отчебучить какую-нибудь такую штуку, от которой несчастный воздыхатель окончательно ошалеет. Она блаженствовала. И в перерыве, в буфете, она не сразу нашла верный тон в ответ на заунывные предложения Антона Вениаминовича, касающиеся все того же дальнейшего устройства их жизни. Она его обидела своим легкомыслием, а когда спохватилась, было уже поздно: художник впал в род столбняка.