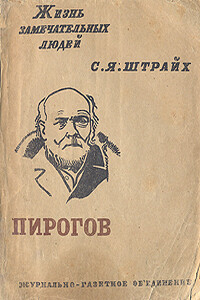Владислав Стржельчик | страница 43
И не случайно в брехтовской мистерии об Артуре Уи, где тема трагичнейшего отрезка истории двадцатого века зловеще трактована как тема балагана, тема переодевания, тема представления, лицемерия и лицедейства, Стржельчик сыграл свою роль. И не просто роль. Он сыграл Актера.
В спектакле «Карьера Артуро Уи», поставленном польским режиссером Э. Аксером, Стржельчик появляется эпизодически. Старый трагический актер романтической выправки, могучего телосложения, с белоснежной, некогда пышной гривой волос, с движениями широкими и плавными, словно объемлющими мир. Актер-трибун, глашатай истины, воспетой на страницах немецкой классической философии, этой громады человеческого идеализма, учит уродливую замухрышку «на трагика». «Натаскивает» безграмотного кретина на фюрера, учит его владеть умами и душами миллионов, посвящает его в тайны своей царственной профессии. Вот еще один аспект сопоставления жизненного и театрального, проникновения театральности в жизнь, обнаружение бесстыдной природы балагана в самой жизни, в самой истории человечества. Правда, Стржельчик в образе Актера не столько анализировал этот аспект проблемы, сколько был его живой иллюстрацией, публицистической заявкой.
Так случилось, что после «Варваров», где идея жизни-роли, жизни-игры раскрывалась в конкретном анализе человеческой судьбы, Стржельчик не имел в театре на протяжении более чем пяти лет ни одной работы, которая позволила бы ему психологически сосредоточиться и углубиться в сущность человеческого характера. И молодой муж в спектакле «Верю в тебя», и Ведущий в «Воспоминаниях о двух понедельниках» Миллера, и Он в «Четвертом», и Репетилов, и Актер, и Лятьевский в «Поднятой целине» (1964) требовали театральной броскости в игре, а не тонкого психологизма, тянули к театральной изобретательности, а не к проникновению в характер. В заданных пределах Стржельчик сохранял свое артистическое достоинство, бывал элегантен и патетичен, ироничен и трогателен. Однако в этой ситуации театральная наглядность, зрелищность, столь остро ощущаемые и чтимые Стржельчиком, перерождались в иллюстративность — в прием.
...Спектаклем, который продолжил линию «Варваров» в творчестве актера, явились «Три сестры» (1965).
КУЛЬМИНАЦИЯ
Парадоксальной кажется сама эта инверсия — от Горького к Чехову. Опытом многих поколений чуть ли не с младенчества усвоено, что вначале были беспомощные философствующие интеллигенты Чехова, а на смену им пришли социальные герои Горького.