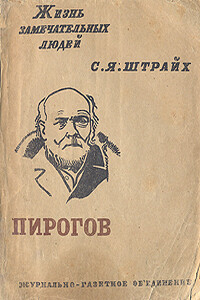Владислав Стржельчик | страница 42
Но, вопреки замыслу Товстоногова или в подтверждение ему — нет нужды гадать,— Стржельчик сыграл в Репетилове нечто диаметрально противоположное. Его Репетилов не сделался символом зловещей «театральной» риторики, а стал апофеозом театральности в буквальном смысле слова.
Спустя несколько лет в телевизионной работе «Принц Наполеон» Стржельчик попытался развить тему своего Репетилова. В политическом фарсе о племяннике Наполеона, задумавшем покорить Францию, он оказался в роли своеобразного катализатора действия. Герой Стржельчика граф де Морни — стареющий дуэлянт, меломан, водевилист, с цилиндром в руке и мелодией из оперетки в голове — явился воплощением скачущего в галопе Парижа, воплощением той условной театральной стихии, которой проникнута, по мысли авторов представления, история о новом Наполеоне.
Так же, как Репетилов, Морни пытался играть в политику, правда более радикальными методами, нежели его театральный предшественник. Однако и здесь игра оставалась игрой, и суть Морни естественнее обнаруживалась в способности диктовать одновременно и обращение к соотечественникам для Наполеона и новый куплет для столичной примадонны.
В «Принце Наполеоне» партнером Стржельчика вновь был Юрский — Наполеон, и диалог их, начатый в «Горе от ума», как бы продолжился, но в совершенно ином русле. Режиссер телепредставления А. Белинский с самого начала разворачивал действие не в жанре политической сатиры, а в жанре полукапустника-полуоперетки, где аналогии ограничены весьма узким кругом театральных ассоциаций. В подобных обстоятельствах Юрский внезапно утратил свой непременный артистизм, показался поразительно непластичным, тяжеловесным. Не имея реального жизненного адресата, конкретной почвы под ногами, он напрочь выпадал из опереточного жанра, из ритма галопа, в котором Стржельчик, наоборот, существовал с завидной легкостью и удовольствием. Правдоискательство, тяга к просветительству, остро ощутимые у Юрского в «Горе от ума», в «Принце Наполеоне» не нашли спроса, зато Стржельчик попал на свое место. И при его энергическом участии зрелище обрело к финалу необходимую легкомысленность, заявленную режиссером в начале.
В «Горе от ума», а затем некоторым образом и в «Принце Наполеоне» резко столкнулись два понимания театра: театра как средоточия жизненной органики и театра как театра.
Юрский по природе своей необыкновенно чуткий к театральной форме художник. В современном актерском искусстве он один из виртуозных мастеров сцены, с безупречно развитым чувством ритма, интонации, жеста. Но для него театральность — это возможность наиболее остро, драматично выявить алогизмы жизни и парадоксы человеческой психики, взятые в их квинтэссенции, в столкновении, в борьбе. Стржельчика же увлекает сама по себе декоративность, орнаментальность театральной формы, ее наглядный, зрелищный по преимуществу характер. И обретая художническую мудрость, переоснащая арсенал выразительных средств, Стржельчик тем не менее продолжает всегда оставаться сторонником самоценной значимости театра. Стржельчик защищает игру как сферу приложения человеческих сил, как способ утвердить себя, наиболее полно реализовать вовне. Не значит при этом, что он понимает идею театра замкнуто и однообразно. Репетилов, Морни — лишь одна из многих модификаций «театральной темы» в его творчестве. Но то, что это принципиальные роли Стржельчика,— бесспорно.