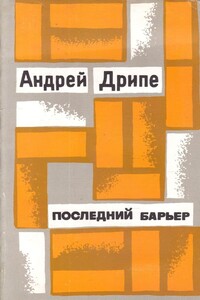В канун бабьего лета | страница 88
Теперь вот на той насыпи, где гнули спины Назарьевы, по той дороге большевики в вагонах едут, а по назарьевскому мосту, по какому, бывало, гнали с хуторов скот и везли хлеб на ярмарку, ползут теперь броневики и автомобили, топают чужие пришлые люди. Мельница — без призору. По утрам туда ходит с сумкою одинокая старушка, выгребает из темных углов проросшее оброненное зерно, слежавшиеся отходы.
— Поводок дала Советская власть молодым, — жаловался отец. — Над попом насмехаются, частушки про него гадкие… «Наш поп благочинный пропил тулуп овчинный»… Раньше почитали батюшку, в ножки кланялись, а теперь ему в космы плюют. Неужели эта власть отшибет у человека и честь и совесть? — Зло поблескивали еще не выцветшие отцовские глаза.
А Игнат думал свое: «Может, шалыганом вот такими Демочка станет? Вот и начинается та свобода, про какую говорил красногвардеец Терентий. Делай, что хочешь — загребай хлеб, плюй человеку в глаза, — никто тебе не указ».
— Односум твой, Сысой, в станице. Будто от самого Черного моря чапает. Застрял у родного дядюшки. Пьют при закрытых ставнях. Скоро заявится. Говорил выпивший, что жизнь тебе спас. Правда?
— Живой, стало быть… А я думал… Досталось нам в тот раз. А кто спас, не знаю. Без памяти я лежал долго. Все холода.
— Деян-образник велел тебе кланяться.
— Спасибо. А прасол как?
— Дома. На приколе. Из окна поглядывает. Сгорбатился он, захромал, хитрый: чтоб на позиции не погнали. Этот не пропадет, не промахнется в жизни.
Когда Пелагея, взяв тарелки, выбегала на кухню, отец плакался:
— Забрали у нас хлебец. Разверстка, говорят. Государственный натуральный налог. Вот как. Дележка вроде. Оставили по пуду на душу. И пожаловаться некому. Ну, ничего, мы-то с голоду не умрем. — Отец как-то подобрался, посуровел, подался плечом вперед, к сыну. — Есть хлебушек и на черный день и на семена. Да вот для кого пахать-сеять будем? А?
Что мог посоветовать Игнат? Он сам ничего не понимал в этой сумятице жизни. Тесть с тещей подались с бедными хуторянами в коммуну. Назвали ее «Зарей». Колготятся за Ольховой гуртом. Собралась вся голытьба. С усмешкою поглядывал Игнат на чихающий паром, пузатый локомобиль, на каком трепыхался красный флажок.
— Тесть твой в коммуне за главаря, — насмешливо говорил отец. — Едят вместе, едят по потребности. Такой у них свой артельный закон. Смехота. Хлеб будут делить на едоков. Нас корят, а у них так же — один холостой на другого многодетного горбить будет. Земля у них есть, да ить ее, любушку, грызть не будешь. Тягло и семена у нас. А у них серпы да бороны. Вспахали они с горем пополам полтораста десятин. Подождем, поглядим… Толкач муку покажет. Рабочим в городах иначе и нельзя. Фабрики и заводы по кускам не растянешь. И на дому один сеялку не сладишь. Вот пролетариаты и толкутся вместе. А крестьянин завсегда был и будет сам себе хозяином и полеводом. А коммунары все хотят на манер рабочих. Дурачье. — Отец зыркнул по сторонам, склонился к сыну, опершись пятерней о его колено, прошептал: — Ты бы за хлебом-то подъехал ночушкой. На лодчонке. Да и мать ждет, соскучилась. Поменело нас, родных.