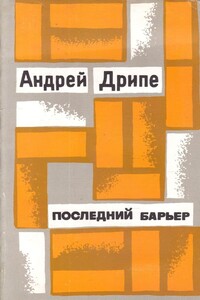В канун бабьего лета | страница 87
— Живой… Ничего, батя, кой-кому хуже пришлось. Полегли. Уж ни про что теперь не думают, ни с кем не встреваются.
— Да, там не милуют. Знаю. — Вытирая глаза корявыми пальцами, отец искал табуретку. — Вот, сынок, уж и не хозяева мы. — Голос отца необычный — мягкий, плаксивый. — Живем теперь в Донской Советской республике. А пришел я из станицы Вольнодонской.
— Из какой?
— Вольнодонской. Назвали теперь так нашу Николаевскую, это чтоб напрочь про царя Николая забыть. Хутор Поганов нарекли теперь Белореченским, а слободу Подловку — Светояровкой. Названья поменять легче, а вот саму жизнь… Вроде как шутейно все начиналось, бунтовали, кричали, а вышло… Земля отошла бог знает кому. Могут и вовсе до самого порожка отчертовать. Ихняя сила и власть.
— Садись, батя, садись. По рюмочке за встречу. — Игнат выхватил из постава рюмки. Ему хотелось приободрить отца. — Может, рановато ты панихиду запел?
— А на кого теперь надеяться? На кого? Казаки — по хуторам, как жуки разлезлись. Одни сидят по домам, за бабьи подолы ухватились, другие, оголтелые, землю делют. Генералы — за моря-океаны подались. Кому мы, такие вот, нужны? Заграничным генералам и офицерьям нас не жалко. Им лишь бы свой верх взять, с нас что сдернуть. Они нам — чужие. Да-а, не бывало такого за все веки вечные.
Пелагея, суетясь под сердитым взглядом свекра, выставила квашеную капусту, жареную картошку, вышла тихо.
— Помнится, курень становили, — вспоминал отец, — так по серебряному рублю по углам фундамента положили. Чтоб жилось привольно да в курене лад и достаток был. И вот — на тебе… Это как же теперь будет? Ну, заберут землю. Станет она обчей и тут же ничьей, беспризорной. Один на другого надеяться будет. А кто ночью душою болеть станет — а как они там, озимые? Не подмерзли? Хозяин — народ. Нет, не понимаю. Не по-ни-ма-ю. Такого на земле не бывало. Это наши кацапы удумали на смех всем странам.
Игнат разлил по рюмкам. Отец бросил короткий взгляд на икону, прошептал:
— Помянем родителя моего, твоего деда родного. Зимой преставился. Схоронили за флигелем.
Ели не торопясь, разговоры вели о жизни.
— Наш-то работник, ровесничек твой, откинул лапти, — с нескрываемой злобой говорил отец. — Наелся чужой земли. Надорвался бедняга в степу. Пахал с утра до ночи, быков уморил и сам в борозду упал. Поминки на днях делали. Ну, ничего, ложки дешевле будут.
…В конце девятнадцатого века подался Гаврила Назарьев — жениховал он в ту пору — с отцом на большое дело: насыпь городить, по какой должны будут тянуть железную дорогу от Дона до Волги через степи донские. Гребли отец с сыном, долбали веками не тронутую, тяжелую землю руками, лопатами, волокли, надрываясь, пласты дерна в тачках, на подводах, настегивая быков. Корчевали кусты, били кувалдами серые глыбы камней. Старались, а денежку им платили скудную. Еле на харчишки хватало. «Сбегим, батя», — просил сын Гаврилу, показывая кровяные мозоли на ладонях. «Не гоже, — отвечал отец. — Куда пойдем? В батраки? Потерпим. Может, улыбнется счастье». А счастье проходило стороною. Смекнул Гаврила Назарьев, что не зашибить им деньжонок, как ни старайся, более того, не лишиться бы пары быков, не припожаловать домой в дырявых портках, на смех станичникам. И повел Гаврила дружбу с рябым, падким на водку десятником. Поначалу вечерами, а потом и средь бела дня стал возить его по хуторам к знакомым вдовам и жалмеркам. Давил в себе Гаврила клокотавшую страсть, сидя за столом с грудастыми молодыми бабами, поступался охватывающими желаниями; лобызал во хмелю ненавистного рябого десятника, говорил ему слова льстивые. И навестило счастье сына и отца, бедовавших в бараке: в замусоленной тетради десятника против фамилий Назарьевых закудрявились веселые цифры. За несколько месяцев отец и сын крепко встали на ноги. Прикатили в станицу и, не медля, дело завернули. Берегли копейку, на гулянки не тратились. Рядом с низкой землянкою курень построили на высоком фундаменте, выкопали колодец, усадьбу обгородили плетнем. Мельницу и маслобойню отгрохали, землицы купили. А потом построили через Ольховую мост. В курене — достаток, в станице — уважение и внимание. Фамилию удачливых Назарьевых стали произносить в богатых куренях с завистью и почтеньем. Жить бы да жить, белому свету радоваться…