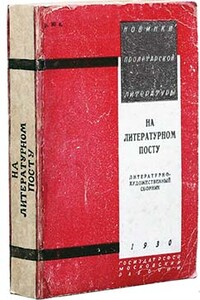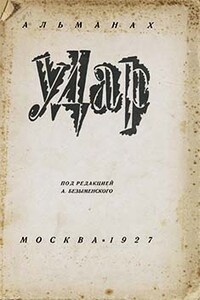В канун бабьего лета | страница 45
А мать просила Игната:
— Ты не обижай Пелагеюшку. Хозяйственная, проворная. Мне-то как полегчало.
Пелагея чуть свет неслышно ускользала на баз, крутила колодезный вороток, доила и выгоняла в стадо корову, выпроваживала теленка, стряпала в летней кухне. Цепляла на коромысла круглые, плетеные из краснотала корзины, запихивала в них белье и бежала к берегу Ольховой — стирать.
Все делала молчаливо, повинуясь каждому взгляду свекрови. Встречался Игнат с женою за столом. Ела она торопливо, не поднимая глаз, сидела на краешке скамьи, будто присела на минутку к домашней компании и боялась посидеть за столом лишнего. Но муж примечал, как следит жена за каждым его взглядом, за каждым движеньем — хочет молчаливо вызнать, какое же любимое блюдо у мужа. Довольством светились ее глаза, когда она ставила перед Игнатом тарелку ухи, густо припахивающей укропом, или свиной холодец с квасом. Тихо и робко ложилась она в постель позже всех в курене. Молча лежала рядом с мужем, боясь к нему придвинуться или о чем-нибудь заговорить. А потом засыпала. А если поздно управлялась по хозяйству, чтобы не будить мужа, стелила в коридоре шубу и, утомленная, падала с одной мыслью — подняться раньше всех, не увидали бы ее мужчины, растянувшуюся в коридоре. «А небось до смерти рада, что в наш дом попала, — беззлобно думал Игнат, глядя на то, как хлопочет жена. — Да и какая от достатка откажется…»
Не было дня, чтобы Игнат не думал о Любаве. В каких она теперь краях? С кем? И хотелось, чтобы там, на чужбине, придавила бы ее жизнь, отомстила за Игната. «Пожалел я ее, надо бы покруче. Никуда б не делась, возилась бы с пеленками…» — раздумывал Назарьев над тем, чего нельзя вернуть и начать снова.
Ходил он на хутор, завернул на игрища. Там уже не танцевали и не пели хуторские парни и девчата, напуганные разбоем дезертиров, а перешептывались под тополями и рано расходились по домам.
Игнат хотел хотя бы ненадолго увлечься какою-нибудь красивой молодой девчушкой, чтобы подзабыть Любаву, чтоб не так болело по ней сердце, а может, навовсе вытравить из души. Но ни одна из девок, что на игрища стали захаживать, не приглянулась ему. «А не присушила меня Любава? — иной раз подумывал Игнат и успокаивал себя: — Нет, не должно. Да и брехня все это — присуха». Игнат, озорства ради, зашучивал с Феклою Путилиной, тянулся рукою к ее ожерелью — монетам, поблескивающим на высокой груди. Феклунья била его по руке, насмешливо укоряла: «Ты чего явился? Чего лезешь? Иди к своей ненаглядной Пелагеюшке».