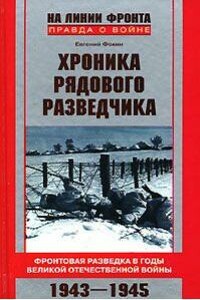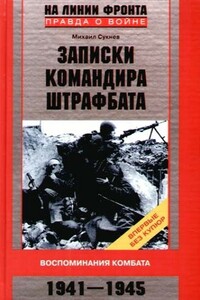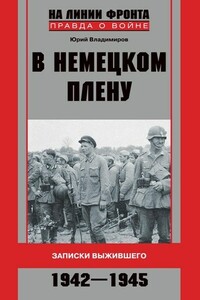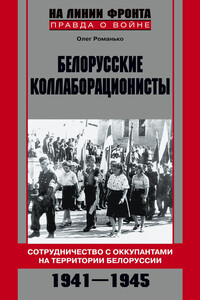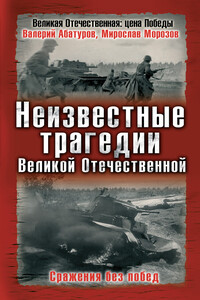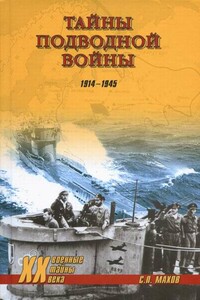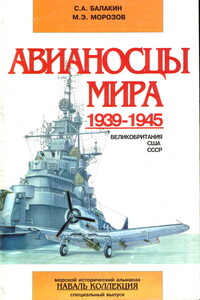Герои подводного фронта. Они топили корабли кригсмарине | страница 63
[54].
Справедливость этих требований молодой офицер понял лишь позже, а пока за добросовестное выполнение штурманских обязанностей он был выдвинут на следующую должность – помощника командира подводной лодки. Для того чтобы ее занять, Ярослав с ноября 1939 года по ноябрь 1940 года учился в командирском классе Учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова в Ленинграде. После его окончания он получил назначение на новейшую черноморскую «щуку» – Щ-216, которая в это время заканчивала достройку и сдаточные испытания в Севастополе.
Новый этап службы также оказался нелегким. Мало того что свежесформированному экипажу пришлось изучить и своими силами достроить корабль, самим морякам только предстояло слиться в единый коллектив, а Иосселиани, как помощнику, предстояло наладить на корабле организацию несения службы. Непросто складывались отношения и с командиром лодки капитан-лейтенантом Григорием Карбовским. «В нашем соединении Вербовский (под таким именем вывел Карбовского в своих мемуарах Иосселиани. – М. М.) был единственный убеленный сединами командир подводной лодки. Он имел большой опыт работы с людьми, но возраст брал свое. Бывали случаи, когда он настолько уставал, что даже не мог вращать перископ, и мне приходилось помогать ему. Состояние нервной системы Вербовского также оставляло желать много лучшего. Он быстро раздражался»[55]. К слову сказать, реальному Карбовскому в конце 1940 года исполнилось всего 37 лет, и изможденным жизнью стариком он просто не мог являться. Вероятно, существовали другие причины вышеназванным особенностям в поведении командира, но тактичный Иосселиани не нашел возможным назвать их.
Начало Великой Отечественной войны застало Щ-216 у достроечной стенки. В строй она вступила только 17 августа, а спустя неделю вышла в боевой поход на дозорную позицию у берегов Крыма. Вслед за первым походом последовал второй – в октябре 1941 года в район болгаро-турецкой границы, где вдоль берега проходила коммуникация, связывавшая порты Румынии с проливом Босфор.
Обстановка на Черном море, особенно в первый период войны, сильно отличалась от обстановки, сложившейся на других морских театрах. К июню 1941-го Германия не обладала здесь ни военным, ни торговым флотом, а флот боярской Румынии уступал советскому Черноморскому по всем статьям. Тем не менее это не означало, что нам удалось установить на море неограниченное господство. Имевшимися силами Черноморский флот не мог помешать вражеским судам совершать ночные переходы из румынского порта Констанца в порты формально нейтральной Болгарии, а оттуда в Стамбул. Турция, соблюдавшая нейтралитет, не препятствовала торговым судам воюющих государств проходить черноморские проливы, закрыв их только для боевых кораблей. Пользуясь этим, вражеские танкеры, на борту которых перевозилась румынская нефть, переходили через Эгейское море в Италию. Конвои танкеров ходили довольно редко, не чаще двух раз в месяц, в остальное же время море оставалось пустынным. К октябрю 1941 года – времени выхода Щ-216 в поход на вражеские коммуникации – обстановка еще более осложнилась, поскольку в результате немецкого наступления вдоль берега Черного моря советским войскам пришлось оставить Одессу и начать бои на дальних подступах к Севастополю. В них в полном составе оказались задействованы надводные корабли и авиация Черноморского флота, в результате чего подводные лодки оказались единственными силами, развернутыми на коммуникациях противника. Разведка практически отсутствовала, и неделями подводникам приходилось утюжить море в ожидании случайной встречи с врагом. Многие субмарины возвращались в базы, даже ни разу не увидев дыма на горизонте. И это в то время, когда гитлеровские войска вели бои на подступах к Москве! Многими подводниками-черноморцами овладели в то время невеселые думы, они стремились попасть на надводные корабли или в морскую пехоту. Но, как показали последующие события, основные сражения в войне на Черном море были еще впереди.