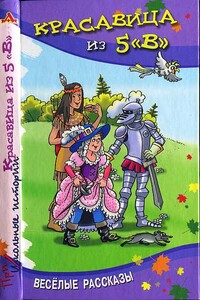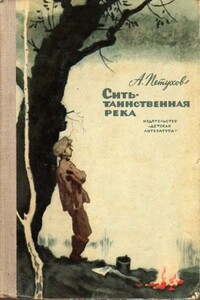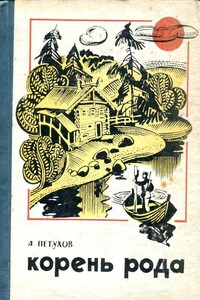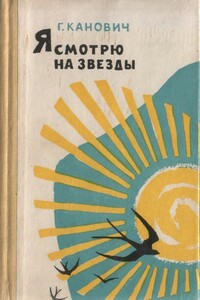Люди суземья | страница 41
Изба Маркеловых была разделена на две половины. Крашеный пол устлан домоткаными полосатыми дорожками, стены оклеены светло-зелеными обоями, окна и двери отсвечивали бледно-голубой эмалью. На передней стене, над срединным окном, красовались роскошные лосиные рога — Герман насчитал на них двадцать три отростка.
Но меблировка избы оставляла ощущение чего-то незавершенного, будто хозяева начали заменять устаревшие вещи новыми, но передумали. Были здесь и широкие старинные лавки вдоль стен, но были и современные полумягкие стулья с низенькими гнутыми спинками, и раздвижной, на поролоне, диван-кровать; рядом с громоздким посудным шкафом возле срединной стены сверкал стеклами и лаком сервант.
Особенно же Герман удивился, когда увидел в углу на треугольном столике магнитофон «Орбита».
— О, да у тебя музшкатулочка есть!
— Что? — Петр перехватил его взгляд. — А-а, есть...
— Покрутим?
— Для тебя, пожалуй, нет ничего интересного. Я вепсскую речь записываю. Сказки, предания, поверья...
Герман разочарованно присвистнул.
— Хочешь увековечить язык последних могикан?
— Последних — не последних, а через десять-пятнадцать лет будет поздно.
— Не велика потеря, — усмехнулся Герман.
— Как сказать, — Петр закрыл тетрадь, положил ее на магнитофон и взял в руки большой том в сером переплете. — Даже в этом новейшем академическом издании некоторые вепсские слова уже даны без перевода. Представляешь? Значения тех слов уже никто не знает.
— Можно посмотреть? — Герман взял книгу. — Ничего себе талмуд! — он уселся на диван поудобнее. — Никак не думал, что есть вепсский словарь.
Петр сел рядом с Германом.
— Вот я начал тебе говорить о словах. Но слова всетаки, худо-бедно, учтены, а как быть с топонимикой? Только в нашем крае десятки деревень, больше сотни озер, а сколько речек, ручьев, болот! И все это было названо. Да что озера — заливы, мысы, горушки, полянки, пожни, перекрестки дорог — всё имело названия.
— Понятно. И ты их записываешь.
— Да. Но что я знаю? Только вокруг своей Лахты. Сотую часть, не больше. Остальное бесповоротно утрачено. Разве не потеря для науки — такая брешь в топонимике? А иногда только по названиям удается ученым установить, какой народ осваивал землю. Ведь что получается, — увлекаясь, с жаром продолжал Петр. — Людям, которые когда-то опять будут здесь жить, — а я убежден, что Ким-ярь не останется на карте белым пятном! — снова придется окрещивать урочища, придумывать названия всем этим озерам, рекам, болотам...