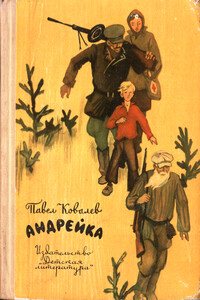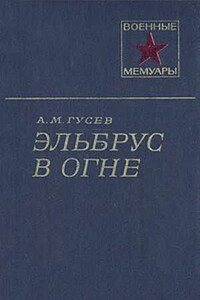Сталинградские были | страница 25
— Самый коренной. С детства рыбачил, а подрос — в плотогоны пошел… Эх, хороша была Волга, привольная, ласковая…
— Почему «была»? — удивился Хмелев.
— Больно неприветлива она стала. Огоньков бакенных по ночам не видно, гудков пароходных не слышно. Тоска…
Иван Оськин махнул рукой и замолчал. Его товарищ тоже нахмурился. Но молча они сидели недолго. Где-то недалеко разорвался снаряд. По краям воронки зашелестел змейками песок. Ефрейтор словно очнулся и вскинул голову.
— А знаешь, как Волга с морозами бьется? — будто продолжая свои мысли, заговорил он. — Все реки скует зима, а она все не поддается. Когда-то когда угомонят ее морозы, и то ненадолго. Полежит она подо льдом, отдохнет немного и давай снова силы набирать. А тут, глядишь, и весна на помощь подоспеет. Обрадуется Волга. Вздуется, понатужится, поломает на куски ледяные оковы и пошла… Сгрудятся льдины, вздыбятся — не пустим, мол… Куда там! Так напрет, что от этих льдин только осколки летят. Никакая сила ее не удержит!.. Гуляет неделю, месяц. Потом успокоится, войдет в берега и понесет на своей могучей груди баржи, пароходы, баркасы, лодки. Поглядишь на нее, матушку, сердце радуется. Здесь ребятишки купаются, там рыбаки тоню тянут. У пристаней пассажиры толпятся. Краны работают, разгружая баржи и беляны. Всюду гудки, песни, смех, говор…
Степан Хмелев раньше никогда не видел больших рек, поэтому с интересом слушал товарища. Сидел он, обняв руками колени, и равномерно покачивался, будто плыл вместе с Оськиным на рыбачьем челне.
Когда ефрейтор кончил, Хмелев посмотрел на реку, на осеннее небо, вздохнул:
— Какую жизнь нарушили фашисты проклятые… Летчиком бы мне быть. Поднялся бы к облакам да как начал бы щелкать всех этих «юнкерсов» и «хейнкелей». Вот вам, стервятники, не лезьте, проклятые, куда вас не просят!
Оськин глянул на него, рассмеялся:
— Как из дуги оглобля не выйдет, так из тебя летчик-истребитель… Тугодум ты большой.
— А летчиков из болтунов, что ли, подбирают? — покосился Хмелев. — Если так, то тебе и часу нечего здесь делать. Рапорт — и сразу на комиссию.
Он повернулся полубоком и долго смотрел куда-то в одну точку.
«Обиделся», — подумал ефрейтор и, чтобы установить снова мир, достал кисет с крепкой махоркой-крупкой.
— Закурим, может, а? Кресало твое работает?
— А твое отказало?.. Тогда прикури от своего языка, он у тебя огневой — сто слов в минуту, — пробурчал Хмелев, однако подвинулся ближе к кисету и достал кресало. — Ты вот, чудак, смеешься надо мной, а у меня душа с телом расстается…