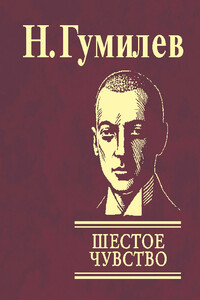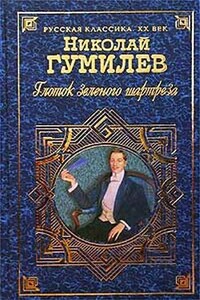Стихотворения | страница 8
Таковы были внешние обстоятельства. О том же, как менялось отношение поэта к войне, говорят его стихи (а также фронтовые репортажи для «Биржевых ведомостей» – «Записки кавалериста»). Эйфория первых военных месяцев вылилась у него в таких бравурных и поверхностных стихах, как «Наступление», но далеко не только в них.
Война показалась ему (и не ему одному) знаком очищения, обновления мира.
Речь идет о пафосе опасности, борьбы, героической жертвенности, приподнимающем человека над собой, открывающим ему древнюю и вечную правду.
Все это непохоже на те жесткие стихи об окопной войне, которые в эти годы писали, к примеру, английские товарищи Гумилева по оружию – Уилфред Оуэн, Айзек Розенберг. Но в 1916 году из-под его пера выходит страшное и блестящее стихотворение «Рабочий» – метафора таинственной личной судьбы в обезличенном пространстве мировой бойни:
В эти годы поэзия Гумилева во многом преображается. В книгах «Колчан» (1916) и особенно «Костер» (1918) он отходит от «неореализма» «Чужого неба». В его поэзию возвращается фантастика, магия – но не наивная декоративность ранних стихов. Многие стихотворения 1916–1917 годов («Ледоход», «Стокгольм», «Прапамять», «Природа», «Творчество») написаны предельно экономно, без единого лишнего слова, имеют жесткую логическую структуру, строятся вокруг одного последовательно развивающегося образа, но образ этот оказывается в итоге предельно странным, эксцентричным, «сновидческим»:
Отдельного разговора заслуживают созданные в эти годы лирические драмы Гумилева – «Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравленная туника». Значительнее всего «Гондла», в которой отразились отношения Гумилева с Ларисой Рейснер – мужественной, решительной девушкой, чей образ очень по-разному присутствует в русской литературе XX века. Герой «Гондлы» – не волевой мачо, а хрупкий певец-горбун, становящийся жертвой грубых воинов-«волков». Можно сказать, что это тайное «альтер эго» поэта.