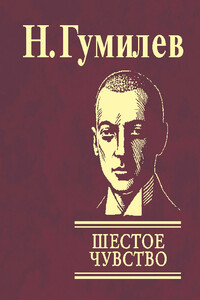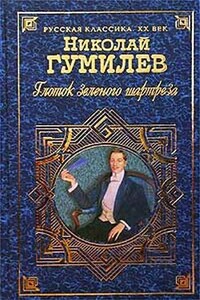Стихотворения | страница 7
Эти строки пересекаются со многими стихотворениями Редьярда Киплинга, поэта, с которым Гумилева часто упоминают рядом и который близок ему скорее идеологически, чем эстетически. Подобно Гумилеву, Киплинг воспевал «сильных людей», солдат, путешественников, авантюристов, не стесняющихся проявлять свою власть над миром и навязывать свою волю другим, но при том несущим на своих плечах все тягости обыденного человеческого существования – «детей Марфы», которых поэт противопоставляет возвышенным и праздным «детям Марии» [2]. Такой же выбор делает Гумилев. Он противоположен свойственному «декадентам» 1890–1900-х годов презрению к обывателю и его судьбе, культу свободного ото всех житейских обязательств художника-«мага». Для акмеистов труд поэта также был священен – но это был именно труд, подобный труду средневекового ремесленника (отсюда само слово «цех») или (акмеисты часто прибегали к этой аналогии) каменщика, строящего готический собор. (Можно воспользоваться мандельштамовской формулой: «Красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра».) Поэт-мастер, в отличие от поэта-мага, обречен нести тяготы жизни наравне со всеми.
Акмеистическая эстетика была неразрывно связана с этикой. В одном из своих итоговых стихотворений – «Память» (1920) Гумилев строго судит свою доакмеистическую молодость:
В этом смысле африканские путешествия, сопряженные с ежедневными лишениями, были для него принципиальны. Еще более принципиален был добровольный уход в августе 1914 года на войну. Патриотический аффект захватил в те дни большинство поэтов. Некоторые пытались уйти на фронт добровольцами, другие позднее были призваны, но в итоге лишь двое (Гумилев и Бенедикт Лившиц) добрались до действующей армии. Между тем Николай Степанович был еще в 1907 году освобожден от военной службы из-за косоглазия. Его участие в войне было вполне добровольным.
Гумилев, как человек с незаконченным высшим образованием [3] и доброволец, имел звание вольноопределяющегося – привилегированного солдата. Он начинал службу в уланском кавалеристском полку, с сентября 1914-го по март 1915-го находился на боевых позициях в Восточной Пруссии и Польше, получил два Георгиевских креста и был произведен в унтер-офицеры. Но затем начавшееся воспаление почек (а надо сказать, что Гумилев вообще не отличался богатырским здоровьем) заставило его вернуться в Петербург. В начале июня он вновь на фронте, а осенью был командирован в школу прапорщиков. После производства в первый офицерский чин в марте 1916-го он был направлен в другой полк – Александрийский гусарский. Но вскоре служба вновь была прервана болезнью (на сей раз это был бронхит). В начале 1917-го полк был расформирован. Гумилев (которому предстоял перевод в пехотный полк разлагающейся на глазах армии) воспользовался возможностью отправиться в составе русского контингента в Салоники (в Грецию). До Салоник он, однако, не доехал. После короткого пребывания в Лондоне (где ему довелось познакомиться с классиками английской литературы – У. Йейтсом, Г. Честертоном) поэт находит службу в Париже – офицером для особых поручений (фактически секретарем) при военном представителе Временного правительства. С тревогой следя за событиями на родине, он думает о том, чтобы выписать за границу Ахматову и сына. Однако из этих планов ничего не вышло, и в начале 1918-го Гумилев вернулся в уже советскую Россию.