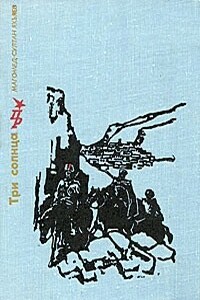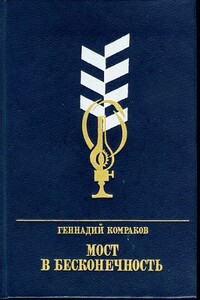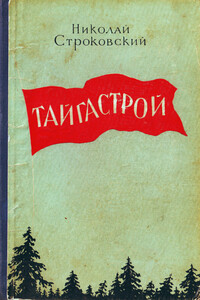В начале будущего. Повесть о Глебе Кржижановском | страница 43
Глеб с трудом разбирает только припев:
— Нет, не так надо петь! — вдруг прерывает он товарищей.
— Что значит «не так»? — Петкевич смотрит на него с изумлением и обидой.
— Что это за Варшава? — Глеб энергично расхаживает по камере, вместо ответа как бы советуется сам с собой, развивает свою мысль: — Чья Варшава? Пана кондитера или пана колбасника? А может, пани гризетки и пана магната? «На бой кровавый, святой и правый» — вот это хорошо. Но надо вынести это вперед, в начало, не прятать в середине строфы! Вот так, сразу:
— Под самое ударение, — задумчиво кивает бледный, какой-то чересчур усталый Ванеев.
— Чтобы как набат! — подхватывает Глеб. — Как залп!
Но тут же останавливается, склоняет голову набок, сомневается:
— Почему вообще Варшава? Зачем? Вы станете петь: «Вперед, Варшава!» Мы — «Вперед, Самара!» Они — «Вперед, Бердичев!..» Что получится? Нет!.. Что если?.. Что если...
— А что? — Базиль — Старков спрашивает так, будто бы прислушивается к собственному голосу, и так же, сам с собой, соглашается: — Ничего. Весьма ничего. Не хуже, чем у нас в Саратове поют...
— Да, да, да... — Глеб размышляет вслух о своем. — Набросайте мне примерный перевод всей песни. Можете? И вообще не очень-то ясно, против кого, за что тот кровавый бой...
— Это же песня, Глеб! Нельзя же так, по-бухгалтерски!
— Почему? Труженик-поляк против русского самодержавия или поляк «вообще» против русского «вообще»? Это, по-вашему, неважно? К тому же для меня слово «бухгалтерия» — отнюдь не ругательство, особливо бухгалтерия революции...
— «Бухгалтерия революции»? То есть бардзо непонятное понятие...
— Да, да, други мои! Надо, очень надо нам учиться считать — считать, прикидывать да по семь раз примеривать, прежде чем отрезать... А сейчас, ну-ка, у кого есть карандаш? И бумаги бы — хоть четвертушку!
Старков отыскал в щели пола обломок графита. Стрежецкий пожертвовал клочок бумаги, ревниво хранимый в тайнике вязаной рубахи. Затем Глеб вдохновенно уединился — если возможно уединиться в общей камере — под окном.
Начало никак ему не давалось — не выходило, хоть плачь!
Попробовал еще, еще...
Только бумагу зря запачкал! А стирать пальцем вон как неловко!
Плюнул. Взялся за вторую строфу, и дело пошло. Он писал стихи и до этого, еще в реальном училище. И всегда, как правило, слова ужимались в строки мучительно, тяжело, как бы протестуя. Он заменял одно слово другим, и тут же под руку лезло третье, лучшее. Но стоило поставить его в строку, и оно вдруг делалось бесцветным, скучным, словно отравленным чернилами. С раздражением, со злостью он разрывал все на куски, с ожесточением отшвыривал их от себя и принимался снова, снова — в каком-то захватывающем отчаянии.