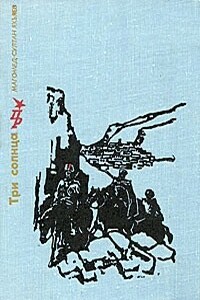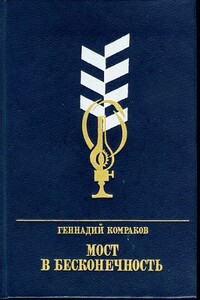В начале будущего. Повесть о Глебе Кржижановском | страница 37
Тихо вокруг. Не мерцают окна. Спят люди. Не слышно и цокота копыт по мостовой: где-то в мозглой тьме исчезла пролетка, умчавшая Васю Старкова...
Лязгает засов. Кованые ворота скрежещут и затворяются. Сырая темень проглатывает Глеба.
Потом в свете засиженных лампочек — лестницы, ряды железных клеток — без конца.
Как холодно, как неприютно в трюме этого корабля, плывущего невесть куда по чьей-то злой прихоти!
Наконец, вот она — «твоя»! — одиночная камера...
Раз, два, три, четыре, пять шагов в длину. Три в ширину. Маленькое, но предельно поднятое, словно вздернутое, окошко. Дверь с форточкой, в которую смотрит надзиратель. Над форточкой глазок — недреманное око. Справа лист железа. Что это? Откидной стол? Откидной стул? Откидная кровать? В белесом потолке одиноко мерцает крохотная лампочка.
Все предусмотрено. Все продумано без тебя — за тебя. Все настаивает: покорись, не перечь, сдайся.
Да-а... Легко отмахнуться от этого, преодолеть это, когда рассуждаешь не здесь... Анатолий Ванеев увезет отсюда туберкулез, который прикончит его в сибирской ссылке. Петр Запорожец заболеет неизлечимой формой мании преследования — сойдет с ума, умрет в психиатрической больнице.
Не так угнетает Глеба скованность, ограниченность, как томит безделье. Деятельный и живой, он не знает, куда себя девать, и не в силах это претерпеть.
Он пытается сдерживаться, как-то бороться с этим, но ничто не помогает: отчаяние подавляет его. Подавляет и когда он, ничего не признав, никого не выдав, ведет долгие, отнюдь не душеспасительные беседы с важным именитым чиновником — с самим Кичиным, усердно внушающим, что «нам известно все, карта ваша бита, единственный путь к спасению — чистосердечное признание...». И когда остается в обществе своего неизменного провожатого — молодого любезного офицера, всем видом как бы упрекающего:
«Ведь ты — мой ровесник... Курил бы свои — собственные, а не мои сигары, сверкал бы свежевыбритыми щеками, благоухал острыми духами, и лицо твое было бы слегка припухшим не от того, что промаялся всю ночь на тюремной подушке, а прогулял, прокутил до зари в обществе очаровательных дам... Ну зачем тебе все это? Поприще народного заступника, Сибирь, чахотка, нужда? За- че-ем?!»
Очень, очень худо бывает, даже если, слегка подтянувшись за кольцо фрамуги, украдкой от надзирателей смотреть на мир божий. Внизу, под тобой, словно в другом измерении, в искаженном, неестественном свете — забор, башенка, часовой. И голуби, голуби — шуршат над узниками, вытаптывающими черное кольцо в свежем снегу, садятся на карнизы окон, привычно требуют свою долю казенных харчей.