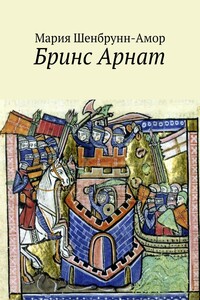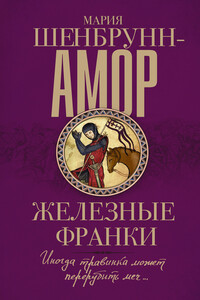Вкус Парижа | страница 65
Мы свернули в Люксембургский сад. Конские каштаны уже доцветали, осыпавшиеся нежные лепестки догнивали на песчаных дорожках, ворковали голуби. Додиньи рухнул на один из расставленных вокруг пруда стульев: судя по бесконечному сосредоточенному молчанию, он пересчитывал окна в Люксембургском дворце.
Наконец смилостивился:
– Учтите, Жерар Серро только выглядит улыбчивым и добродушным толстячком, на самом деле это беспощадный и зловещий джокер.
– А остальные?
– Бернар Годар, куратор Версаля, со всей его важностью и надменностью – просто учёный болван. Камилл Мийо сложнее, его одним словом не опишешь. Для него главным удовольствием было следить, как его друг Пер-Лашез облапошивает окружающих, и чувствовать себя при этом умнее их. Эмиль Кремье – тот просто выжига.
– А Мишони?
Додиньи печально вздохнул:
– Мишони – гений. У него необыкновенные руки. Это человек, который может состязаться с лучшими краснодеревщиками в истории Франции. А когда человек может, ему трудно удержаться от того, чтобы этого не делать. Как бы то ни было, все они сотрудничали с Пер-Лашезом. А при их содействии этот аферист был всесилен.
Мы покинули сад и прошли к станции метро «Сен-Сюльпис». Уже с исчезающего перрона Додиньи прокричал мне:
– Учтите, никаких кроватей Людовика XVII! Бедняжка спал в тюрьме на соломе!
В резком синеватом свете подземки Додиньи походил на утопленника.
До своей остановки я вспоминал всё сказанное Марго и Додиньи. Если кто-то из них и проговорился, то выудить полезный намёк из общей болтовни казалось труднее, чем обнаружить алмаз в горной породе.
Окна нашей квартиры озарял тёплый свет. Ноги сами через ступеньку внесли на первый этаж. Я раскаивался, что ещё утром не помирился с Еленой. Весь этот день собственная вина угнетала меня.
Из недр квартиры пахнуло пирогами. Граммофон разливался новоорлеанским джазом, но контрабас и барабан легко перекрывал бас Дерюжина:
– Ради тридцати франков кружишь всю ночь по пустому ночному Парижу. Иногда кажется, что всё это – какой-то кошмар. Это не моя жизнь. Я должен был или с пулей во лбу валяться в подвалах Лубянки, или мирно отстраивать свою Сосновку. А это выживание в эмиграции, без цели и смысла, – это не ад и не рай, это хуже – забвение… Как там у древних греков загробный мир назывался?
Я замер, удерживая ботинок за шнурки. Со мной Дерюжин никогда не был столь откровенен.
– Если Париж – Тартар, то вы – Харон, подбирающий в ночи несчастных путников, – живо возразила Елена.